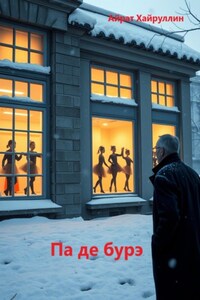Вчера я пропустил поворот на проспекте Салавата Юлаева – отвлёкся на подкаст, где двое интеллектуалов обсуждали кризис либерального гуманизма, – и навигатор, не упрекнув меня ни единым звуковым сигналом, спокойно произнёс своим бесстрастным женским голосом: «Маршрут перестроен». Вот так. Без драмы, без морали, без того самого «я же тебе говорила». Просто – перестроен.
Стоя в пробке у Монумента Дружбы, я вдруг понял: мы живём в эпоху, когда технологии научились прощать нас быстрее, чем мы сами себя прощаем. Навигатор не помнит твоих промахов. У него нет памяти обид. Он – чистое настоящее, вечное «что делать дальше».
А когда-то отец мой, инженер на нефтеперерабатывающем заводе, возил в бардачке «Жигулей» потрёпанную карту Башкирии, всю исчерченную красным фломастером, с заметками на полях вроде «здесь пост ГАИ по субботам». Сбивался с пути – останавливался у обочины, разворачивал карту на капоте, щурился, прикуривал «Беломор», и минут пятнадцать материлась вся семья, пока он методом исключения определял, где мы находимся.
Мать нервничала: «Лучше бы спросил у кого-нибудь».
Он огрызался: «У кого тут спрашивать? Видишь кого-нибудь?» – хотя видел прекрасно. Просто спрашивать было унизительно. Советский человек не спрашивал дорогу – он знал. Или делал вид.
Пропустить поворот тогда означало не технический сбой – это был экзистенциальный провал, трещина в фундаменте мужской компетентности. Отец мог простить мне двойку по математике, но не прощал себе незнания маршрута. Ошибка была не этапом – приговором. Мы всё равно добирались до бабушки в Учалы, но осадок оставался, и весь вечер отец молчал, переживая личное поражение в невидимой войне с пространством.
Я вырос в этой парадигме. В школе учительница литературы Раиса Габдулловна, татарка, вышедшая замуж за русского и принявшая его фамилию как естественную часть новой жизни, с серебряной брошью на вороте и старомодным пучком, говорила: «Ошибка в сочинении – это нравственный изъян. Безграмотность есть неуважение к культуре». И мы, пионеры восьмидесятых – Гульназ из параллельного, Серёжа Ковалёв, Марат, я – сидели над тетрадями, боясь поставить лишнюю запятую. Потому что запятая – не знак препинания. Симптом распада личности.
В нашем классе было всё как на карте республики: русские, татары, башкиры, несколько украинцев, чувашка Нина, мариец Игорь. Но никто об этом не думал особенно – разве что на Сабантуе или когда бабушка Марата угощала нас чак-чаком. Мы были советские дети, этого хватало. Раиса Габдулловна одинаково требовала от всех знания Пушкина, и Марат читал «Евгения Онегина» не хуже меня, хотя дома у него стояли ещё и томики Мустая Карима в башкирском оригинале.