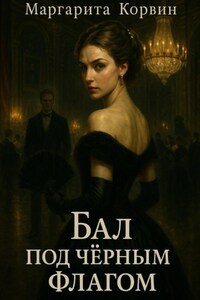Сырой парижский ноябрь сочился сквозь неплотно прикрытую раму, принося с собой запах мокрого камня и гниющих листьев из сада Тюильри. Этот запах, въедливый и меланхоличный, стал для Елены запахом ее новой жизни – жизни, выкроенной из чужих лоскутов, сшитой наспех грубыми стежками необходимости. В гостиной особняка де Валуа на рю де Риволи пахло иначе: вощеной древесиной, увядающими в японской вазе хризантемами и едва уловимой нотой дорогих сигар мсье Этьена. Здесь воздух был густым и неподвижным, как вода в заросшем пруду, и дышать им Елене всегда было трудно.
«А теперь, Софи, покажи мне на карте реку, которую называют сердцем Франции», – произнесла она ровным, бесцветным голосом, тем самым голосом, который она выработала для этого дома. Голосом гувернантки. Мадемуазель Элен.
Восьмилетняя Софи, живое, порывистое создание с глазами цвета фиалок, ткнула тонким пальчиком в синюю извилистую линию, пересекавшую глянцевую поверхность карты. «Сена! C'est la Seine, Mademoiselle!»
«Верно, – кивнула Елена, и ее отражение в полированном дереве стола кивнуло в ответ: строгая фигура в темно-сером платье с белым воротничком, гладко зачесанные темные волосы, собранные в тугой узел на затылке. Лицо-маска, безупречное и непроницаемое. – А теперь найди город, где Сена впадает в море».
Ее собственный город лежал далеко отсюда, за тысячами верст лживых границ и пролитой крови. Он стоял на другой реке, скованной льдом по полгода, и его гранитные набережные помнили стук копыт и шелест бальных платьев. Иногда по ночам, когда тишина в мансарде становилась особенно оглушительной, она слышала плеск невской воды, темной и тяжелой, как расплавленный свинец. Воспоминания приходили без спроса, острые, как осколки разбитого зеркала, и каждое ранило по-своему.
Софи что-то лепетала про Гавр, про большие корабли, уходящие в Америку, но Елена уже не слушала. Ее взгляд скользил по золотому тиснению на корешках книг в застекленном шкафу. Мольер, Расин, Корнель. Французская классика, незыблемая, как своды Нотр-Дама. В ее прошлой жизни, в отцовской библиотеке, тоже стояли эти тома, только рядом с ними соседствовали Пушкин и Лермонтов, Достоевский и Толстой. Там книги пахли кожей, пылью и ее детством. Здесь они не пахли ничем. Они были частью интерьера, как и она сама.