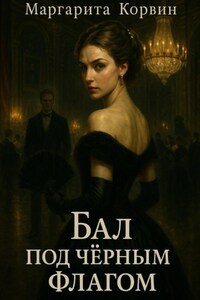Музыка угасала, таяла в бархатной синеве зала, словно последний вздох умирающего лебедя. Но для Елизаветы Ланской, для ее Авроры, это было не угасание, а апофеоз, точка наивысшего горения, после которой остается лишь ослепительный пепел. Последнее па, замершее в воздухе на долю секунды дольше, чем позволяли законы земного притяжения, было не просто движением, но утверждением. Утверждением того, что красота есть высшая, единственная правда в этом трещавшем по швам мире. Ее тело, невесомое в белом облаке пачки, казалось, было соткано не из плоти и крови, а из самой мелодии Чайковского, из лунного света, пробивавшегося сквозь нарисованные своды дворца.
Занавес еще не тронулся с места, но она уже чувствовала его. Этот ток, идущий из темноты зрительного зала. Он был почти осязаем, как жар от раскаленной печи, как наэлектризованный воздух перед грозой. Секунда тишины, плотная, звенящая, в которой, казалось, уместилась целая вечность ожидания, а потом – взорвалось.
Аплодисменты ударили не в уши – они ударили в грудь, в солнечное сплетение, волной, которая едва не сбила ее с ног. Это был не просто одобрительный гул, не вежливый шелест аристократических ладоней. Это был рев, шторм, тысячеголосый вопль восторга, который обрушился на сцену, смывая усталость, боль в натруженных до предела мышцах, сомнения последних репетиционных недель. Елизавета сделала глубокий, судорожный вдох, и воздух показался ей сладким, как запретный десерт. Она опустила голову в низком поклоне, и золотистая пыльца с ее ресниц осыпалась на гулкие доски подмостков. Цветы летели к ее ногам – тугие бутоны роз, хрупкие камелии, тяжелые гроздья сирени, чей душный аромат мгновенно смешался с запахом канифоли и разгоряченного тела.
Она кланялась снова и снова, улыбаясь той особой, сценической улыбкой, которая ничего не выражала и одновременно вмещала в себя все: и благодарность, и царственное снисхождение, и безмерное одиночество вершины. Она искала в темном, безликом чреве зала одно лицо, но видела лишь сотни белых пятен – накрахмаленные манишки, бледные декольте, блеск лорнетов и бриллиантов в высоких прическах. Золото лож, казалось, плавилось в свете рампы, стекая в партер тяжелыми, вязкими каплями. Последняя сказка уходящей эпохи, как шепнул ей на днях старый импресарио. Тогда она не придала этому значения, но сейчас, стоя в этом урагане звука, она вдруг почувствовала ледяной укол – а что, если и вправду последняя?