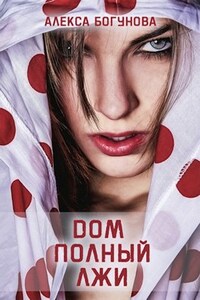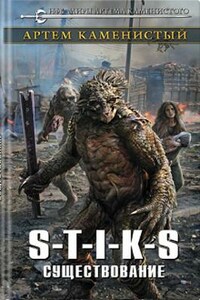Ноябрь вползал в Петербург незваным гостем, промозглым и серым, просачиваясь сквозь щели рам, оседая влажной пылью на подоконниках и ледяной тоской – в душах. Аркадий Петрович Вольский ощущал его присутствие физически, будто город выдыхал на него свой чахоточный, гнилостный дух. Пробуждение было похоже на медленное всплытие из вязкой, темной воды. За окном, в колодце двора, едва брезжил жидкий, немощный свет, не способный разогнать ночной мрак, а лишь разбавлявший его до цвета старого олова.
Он сидел за кухонным столом в своей квартире на Васильевском острове, машинально прихлебывая остывший чай. Керосиновая лампа на столе бросала на стену его тень – длинную, сутулую, двойника, который был честнее оригинала, не скрывая усталости. В этом утреннем ритуале была своя дисциплина, свой порядок, единственное, что еще подчинялось ему в мире, давно вышедшем из пазов. Завести часы-ходики. Протереть стекла пенсне. Развернуть свежий номер «Петербургского листка», вдохнув типографский запах свинца и тревожных новостей. Новости были все те же: стачки на заводах, новые указы Синода, очередной суд над анархистами. Система работала, перемалывая жизни с усердием громадного, ржавого механизма. Он был винтиком в этом механизме, и от этого осознания чай во рту становился еще горше.
Резкий, требовательный стук в дверь вырвал его из оцепенения. Так стучат либо с бедой, либо с приказом, что в его службе часто было одним и тем же. На пороге стоял молодой околоточный, запыхавшийся, с красным от мороза и спешки лицом. Он вытянулся в струнку, сжимая в руке фуражку.
– Ваше высокоблагородие, господин надворный советник! Генерал Хвостов требуют немедля в Департамент. Происшествие у нас… чрезвычайное.
Вольский молча кивнул, уже натягивая форменный сюртук. Он не задавал вопросов. Чрезвычайные происшествия были его ремеслом. Он лишь отметил про себя, что голос у юнца дрожал, а глаза бегали, словно у нашкодившего гимназиста. Страх. В здании на Гороховой, цитадели закона и порядка, страх был дурным предзнаменованием.
Пролетка, нанятая околоточным, неслась по пустынным утренним улицам, взбивая копытами ледяную грязь. Город еще не проснулся, он дремал, укутанный в саван тумана. Газовые рожки, словно умирающие светляки, цеплялись за жизнь, их свет тонул в белесой мгле, не достигая мостовой. Из тумана выплывали призрачные силуэты: Исаакий, похожий на громадный шлем забытого великана; темная громада Адмиралтейства. Петербург был городом-лабиринтом, построенным на костях и амбициях, и Вольский знал его темные углы лучше, чем собственную душу. Он знал, что туман – лучший союзник лжи, он скрывает уродство, размывает контуры, заставляет сомневаться в том, что видишь собственными глазами.