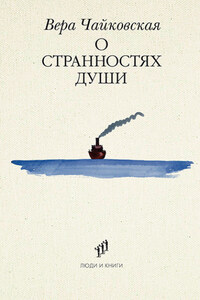Белая лилия на грязном снегу
Низкий, промозглый туман, пахнущий угольной гарью и стылой речной водой, лениво сползал с Воробьевых гор, цепляясь за купола бесчисленных церквей, и к предутреннему часу поглощал Москву целиком. Он превращал знакомые улицы в призрачные коридоры, где каждый звук тонул в серой вате, а свет газовых фонарей казался не маяком, а обманчивым блуждающим огоньком над топью. Город еще спал беспокойным, некрепким сном, вздрагивая от редкого цокота копыт запоздалого извозчика или далекого, хриплого лая.
Для дворника Ферапонта, отставного унтер-офицера с седыми бакенбардами и спиной, прямой, как ружейный шомпол, этот туман был лишь очередной досадой, делавшей брусчатку скользкой и холодной. Он вышел во двор задолго до первого колокольного звона, как делал это последние двадцать лет, с тех самых пор, как променял лязг сабель на скрежет лопаты. Его мир был прост и упорядочен: расчистить снег у ворот, посыпать песком лед, убедиться, что околоточный не дремлет на своем посту. Но сегодня привычный ритуал был нарушен.
В самой глубине подворотни, там, где тени были гуще всего и всегда пахло мочой и кислым пивом из соседнего трактира, Ферапонт заметил темный узел, присыпанный свежим, но уже грязным снежком. Сперва он принял его за брошенный кем-то тюк с тряпьем. Пьяные мастеровые или нищие с Хитровки нередко искали здесь ночлег, оставляя после себя всякий хлам. Старик раздраженно крякнул и ткнул в узел черенком лопаты. Тюк не пошевелился, лишь с него соскользнула шапка снега, обнажив бледное пятно, оказавшееся человеческой щекой.
Ферапонт замер, лопата выпала из ослабевших рук и глухо стукнулась о мерзлую землю. Он видел смерть много раз – на полях сражений, в госпиталях, на улицах холерного города. Но к ней невозможно было привыкнуть. Особенно к такой – тихой, будничной, сиротливой. Он подошел ближе, перекрестился широким, привычным жестом. Молодая женщина, почти девушка, лежала на боку, поджав колени, словно ей было очень холодно. Ее дешевое ситцевое платье, сбившись, открывало худые лодыжки в стоптанных, прохудившихся ботинках. Лицо, обращенное к нему, было спокойным, почти безмятежным, с тонкой корочкой инея на ресницах.
Через четверть часа, когда туман начал редеть, уступая место мутному, неохотному рассвету, в подворотне стало людно. Околоточный надзиратель Сидоров, грузный мужчина с багровым от мороза и многолетних возлияний лицом, лениво оттеснял зевак и что-то записывал в свою засаленную книжицу. Рядом с ним топтался городовой, поглядывая по сторонам с видом человека, которому вся эта суета глубоко безразлична.