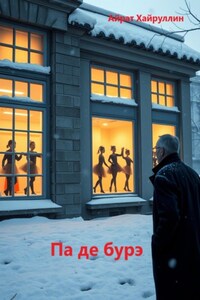Когда я пытаюсь вспомнить самое раннее – не помню, разумеется, но именно вспомнить, реконструировать из обрывков семейных легенд, из выцветших медицинских справок с печатями районной поликлиники, из маминых оговорок и отцовского молчания то, что принято называть началом, – перед глазами встаёт не родильный дом номер один на улице Тукаева, не девятнадцатиметровая комната в черниковском бараке, куда меня привезли после операции в марлевом конверте, а странная, почти мистическая статистическая формула: тысяча к одному.
Тысяча детей на всю страну – от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Кушки. Огромная империя с двумястами сорока миллионами населения, с космодромами и атомными ледоколами, с балетом Большого театра и комсомольскими стройками. И при всём этом – тысяча детей с диафрагмальной грыжей в год. Ровно тысяча, как будто кто-то свыше распределял квоты на человеческое несчастье. И один выживший. Я.
Диафрагмальная грыжа у новорождённого в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году – это приговор, написанный на бланке с гербом СССР. Медицинская наука того времени была бессильна. Не по злому умыслу, не от недостатка старания – просто так устроен мир: есть вещи, до которых человечество ещё не доросло, как ребёнок не дорастает до верхней полки в шкафу. В тысяча девятьсот шестьдесят шестом до диафрагмальной грыжи у новорождённых оно не доросло. Почти.
Отец мой, человек, привыкший раздвигать землю стальным ножом бульдозера, переворачивать тонны грунта одним движением рычага, в тот день не мог ничего. Абсолютно ничего. Он простоял все восемь часов операции в коридоре родильного дома, не присаживаясь, не выходя подышать, только ходил от окна к двери и обратно, как маятник больших напольных часов. Мама, у которой сразу после родов забрали меня – даже не дав взглянуть, не приложили к груди – лежала в послеродовой палате и слушала тишину. Ту особенную больничную тишину, когда за стеной плачут чужие новорождённые, а твой – молчит. Она не знала, жив ли я, что со мной делают, добьются ли успеха. Медсестры проходили мимо, отводя глаза, и это было красноречивее любых слов. В волнении и тревоге она ждала – просто ждала, потому что больше ничего не оставалось, – и надеялась вопреки всему, что ей не договаривали врачи.
Брату, тогда было два с половиной года, было не понятно, почему мама не вернулась домой, почему папа ушёл и со вчера не вернулся, почему он остался на попечении тёти Зайтуны, младшей сестры отца.