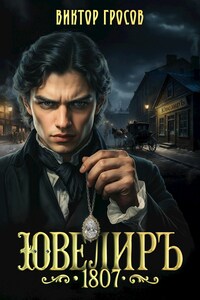Удар. Несильный, скорее тычок
тяжелым сапогом в бок, но он стал тем самым камертоном, который
настроил хаос в моей голове на одну-единственную, пронзительную
ноту — реальность. Боль была настоящей. Острой, рваной, отдающейся
в каждом ребре. Она оборвала ментальный полет и швырнула мое
сознание в эпицентр чужой агонии, окончательно сшивая меня с этим
дрожащим телом. Я, Анатолий Звягинцев, был здесь. Где бы это
«здесь» ни находилось.
Фигура надо мной обрела четкость.
Грузный мужик лет сорока, с одутловатым, нездорового цвета лицом,
заросший щетиной. От него несло перегаром и потом. Руки, черные от
сажи, но с удивительно чистыми, почти выскобленными ногтями —
профессиональная привычка того, кто работает с мелкими деталями. Он
снова замахнулся, и я инстинктивно вжал голову в плечи.
Инстинктивно!
Да как же бесит этот малой!
Я, который смотрел в глаза арабским
шейхам и уральским авторитетам, торгуясь за камни стоимостью в
годовой бюджет маленькой страны. Этот рефлекс был не моим. Он
принадлежал мальчишке, в чьей шкуре я оказался. И вместе с
рефлексом из глубин чужой памяти всплыло слово, липкое от страха и
горечи:
«Дядька…».
Этот человек был семьей. Тро- или
четвероюродным дядей, единственным, кто забрал сироту Гришку после
смерти родителей. И это знание превращало тупую злобу в настоящее
предательство. От этого осознания к страху примешалась волна
унизительной злости.
Я заставил себя разлепить веки и
посмотреть ему в глаза. Это была первая моя победа в этом новом
мире. Глаза у него были маленькие, свиные, заплывшие жиром и
замутненные алкоголем. В них не было осмысленной жестокости садиста
— эдакая тупая, бытовая злоба человека, которого жизнь загнала в
угол.
Инстинкт ученого, привыкшего
анализировать и давать точные формулировки, сработал раньше, чем я
успел его остановить. Превозмогая боль в груди, я прохрипел, и
голос, сорвавшийся с губ, был чужим, тонким, мальчишеским:
— Не бейте… по ребрам… возможно,
трещина.
Это была колоссальная ошибка.
Логичная для шестидесятипятилетнего человека, привыкшего к тому,
что его слова имеют вес. И абсолютно безумная для забитого
племянника-подмастерья. В глазах мужика на секунду промелькнуло
удивление, а затем оно сменилось выражением оскорбленного
самолюбия. Как? Этот щенок, этот дармоед, которого он приютил из
милости, смеет ему указывать? Смеет говорить умные слова?