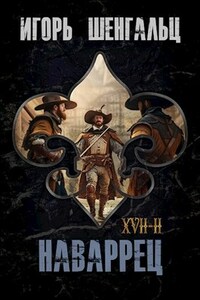Берлин февраля 1944 года был мрачен
и тревожен. По ежедневным унылым маскам, носимым горожанами, сложно
было что-то понять — обычные, ничего не выражающие тусклые лица. И
даже если в их сердцах царил хаос и страх, никто этого не видел.
Обещания, налево и направо раздаваемые властями уже не имели той
силы, что прежде. Люди перестали доверять, но открыто выразить свой
протест не могли — немецкая натура не позволяла. Всегда должен быть
порядок! Вот если бы нашелся новый лидер, который открыто повел бы
за собой… но такого человека не было и быть не могло. И все
тянулось своим чередом.
Внешне в городе все шло в обычном
порядке — работала почта, полиция, магазины. Люди спешили по своим
делам, ездил общественный транспорт.
Казалось, что это обычный мирный
город, если бы не мелькающие за стеклом автомобиля картины
чудовищных разрушений, нанесенных авиацией противника. Примерно
треть города была уничтожена, и завалы никто не спешил разбирать —
не хватало рабочих рук. Но рядовые немцы словно этого не замечали
вовсе, относясь ко всему происходящему, как к некоей данности.
Впрочем, из города уже сбежали все, кто мог, и с каждым днем Берлин
покидали все больше и больше человек. Особенный отток случился
после январской массированной бомбардировки, когда в условиях
низкой облачности немецкие ПВО пропустили бомбардировщики… и
воцарился ад.
Гришка вел машину в спокойном темпе,
аккуратно объезжая выбоины, лужи и воронки от снарядов, матерясь
вполголоса, когда колеса буксовали в грязи.
Эх, нет в этой стране тех зимних
морозов, к которым я привык в Челябинске. Немецкая зима — это
слякоть, мокрый снег вперемешку с дождем, сильный северный ветер.
Гадость та еще! Но нам это лишь играло на руку.
Где-то в эти дни Димке исполнилось
восемнадцать — совершеннолетие, но я сбился со счету дней, и не был
уверен точно.
Выехав из Заксенхаузена, мы не
поехали напрямую, хотя это был один из вариантов, но в итоге я
подумал, что имеется огромный шанс наткнуться на войска, идущие на
помощь уничтоженному лагерю.
Большинство заключенных погибли,
многие были ранены, но никто не роптал. Я видел на худых и
изможденных лицах улыбки.
Мы стерли концлагерь в ноль,
раскатали его под фундамент, а что уцелело — сожгли.
Чтобы и следа не осталось, чтобы
само это место было проклято во веки веков, чтобы каждый, кто
пришел бы туда после, почувствовал боль и страдания людей, живших и
умиравших там.