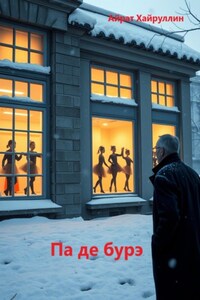I
Я запомнил этот вечер потому, что солнце било прямо в лобовое стекло старой «копейки», а снег на обочинах отражал свет так нестерпимо, что хотелось зажмуриться и просто переждать. Ехал я из Уфы в Туймазы – меня вызвали по срочному делу: в музыкальной школе, где я преподавал теорию музыки, обнаружилась течь в хранилище инструментов, и директриса паниковала так, будто речь шла о затоплении Эрмитажа.
Дорога знакомая, пятьдесят раз езженная, но в этот февральский день показалась бесконечной. Солнце висело низко, цеплялось за голые берёзы и не желало садиться – будто назло мне, щурящемуся и ругающемуся сквозь зубы. И тут я подумал впервые за тридцать восемь лет: ведь это не солнце движется. Это мы. Мы вместе с Землёй вращаемся прочь от света. Вся моя досада – не по адресу.
«Скорей бы солнце село», – бормотал я привычно, как тысячи раз: когда оно мешало смотреть телевизор, пробиваясь сквозь занавеску, когда слепило на остановке, когда будило в выходной раньше времени. И вдруг услышал другой голос – не свой: «Скорей бы Земля повернулась».
Откуда эта фраза? Потом вспомнил – старая книжка про астронавтов «Аполлона», про Майкла Коллинза, того самого, кто не высадился на Луну, а кружил вокруг неё в командном модуле, пока Армстронг и Олдрин гуляли по лунной пыли. Он говорил, что после полёта изменилось восприятие: понимаешь, что тьмы в космосе не существует, что свет повсюду, всегда. Просто мы сами уходим в тень.
Банальность, конечно. Каждый школьник знает про вращение Земли. Но одно дело – знать умом, другое – почувствовать нутром, третье – вдруг осознать среди февральского слепящего снега, что всю жизнь ты обвинял светило напрасно. Мы – те, кто отворачивается.
Доехал я уже в сумерках. Течь оказалась пустяковой, директриса Галина Фёдоровна успокоилась, напоила чаем с баурсаками, пожаловалась на жизнь. На обратном пути щурился только от встречных фар. Ночь была бархатная, беззвёздная.
II
Меня зовут Рустам Галиуллин, и я – продукт той самой советской культуры, которая умудрилась сделать мальчишку из Октябрьского влюблённым в классическую музыку и русскую литературу. Отец работал мастером на нефтеперерабатывающем заводе, мать – терапевтом в районной больнице. Оба они, воспитанные в духе интернационализма, говорили дома по-русски, хотя с бабушкой – по-татарски. Этот билингвизм был такой естественный, что я даже не задумывался, на каком языке думаю. Скорее всего, на обоих сразу. Или между ними – в каком-то третьем пространстве, где слова перетекают одно в другое.