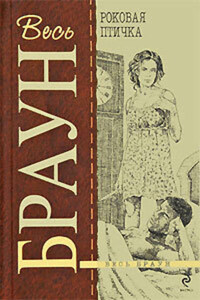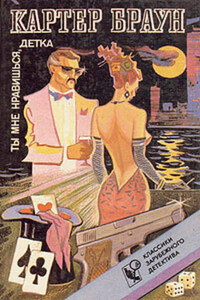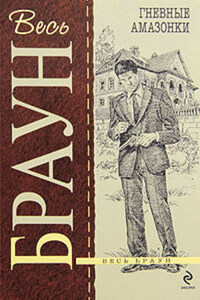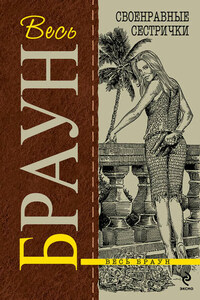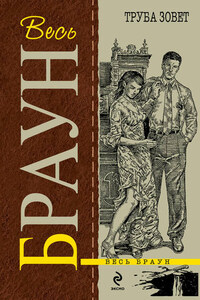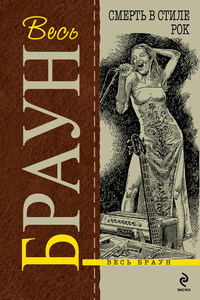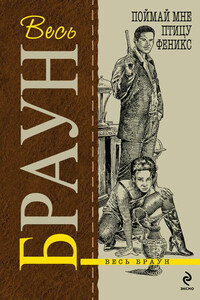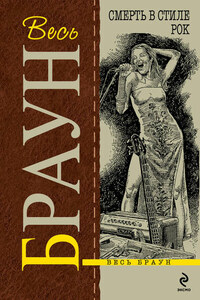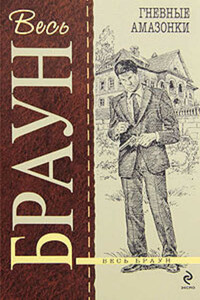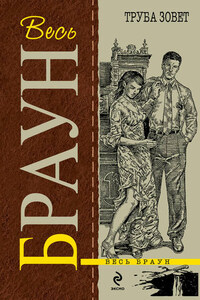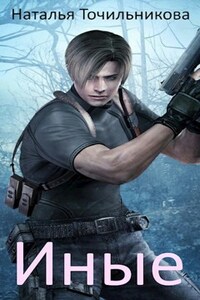Чарльза Ван Халсдена хоронили на крутом берегу острова Мэн.
В связи с трагическими обстоятельствами его смерти число участников траурной процессии было ограничено родственниками и близкими друзьями усопшего. Кортеж не превышал трехсот лимузинов. Присутствию прессы и посторонней публики энергично препятствовала фаланга полицейских в форме.
Океан, весь в белых шапках пенистых волн, выглядел угрюмым и беспокойным. Сильный дождь поливал обнаженную голову министра, провожавшего гроб Ван Халсдена к месту его последнего упокоения. За ним колыхалось море черных зонтов, под прикрытием которых погребальное шествие двигалось по узкой дорожке к заранее вырытой могиле.
Возвышавшиеся вокруг пышные надгробия с мраморными крестами и изваяниями воинственных ангелов молчаливо свидетельствовали о том, что это кладбище только для очень богатых людей.
Один из наиболее бесцеремонных журналистов подсчитал, что число участников траурной церемонии представляло общее состояние примерно в триста миллионов долларов, ну, может быть, плюс-минус пятьдесят. Он также высказал предположение, что, если все явившиеся сюда люди в результате какого-нибудь стихийного бедствия внезапно перестанут существовать, на Уолл-стрит возникнет паника, какая случилась в 1929 году.
Чарльз Ван Халсден оставил наследство примерно в сорок миллионов долларов и вдову. Никаких детей у него не было. В этот унылый апрельский день похороны проводились с торжественностью, приличествующей кончине мультимиллионера. Вдова была в традиционных траурных одеждах. Единственная фотография, появившаяся в печати, изображала ее смутный силуэт под тяжелой черной вуалью.
Я встретился с ней впервые спустя три месяца.
Она жила на Пятой авеню в районе восьмидесятых улиц в фешенебельной квартире, расположенной в двух уровнях. Чтобы пройти мимо швейцара, требовалось предъявить чуть ли не удостоверение ФБР. Даже лифт здесь был шикарнее, чем весь мой подъезд на Сентрал-парк-Вест. Дворецкий открыл входную дверь. Это был, пожалуй, самый молодой Дживз, которого мне когда-либо приходилось видеть в своей жизни. Ему, очевидно, не исполнилось еще и двадцати пяти, и он был красив той темной, волнующей красотой, которая отличает испанских матадоров. Я назвал свое имя и последовал за ним по углубленной, как кегельбан, дорожке, заканчивающейся холлом, который вел в гостиную.