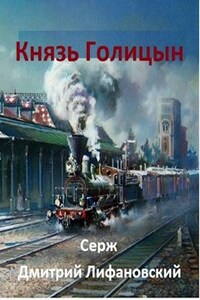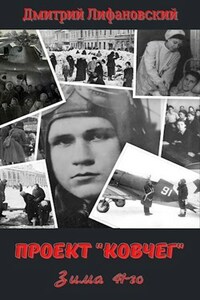Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно.
Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к
востоку...
А это я на полустанке
В своей замурзанной
ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.
Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук
наборный.
И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.
Как это было! Как совпало
Война, беда, мечта и
юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне
очнулось!..
Сороковые, роковые.
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
(Давид Самойлов)
Мягкий невесомый снежок плавно
опускался на знакомую с детства брусчатку главной площади страны.
Света задрала лицо к начинающему темнеть в свинцово-серых сумерках
небу. Снежинки кружились как маленькие балерины, исполняя свой
замысловатый танец, и таяли, касаясь разгоряченной кожи щек. Вот
одна шалунья закружилась, заметалась, подхваченная легким ветерком
и прыгнула прямо в глаз. Девушка заморгала и прикрыла глаз
огромной, жесткой армейской рукавицей. Глубоко вздохнув, Света
улыбнулась. После разговора с отцом, которого она так боялась, и в
то же время так хотела и ждала, с сердца словно убрали сжимающую,
вымораживавшую до самого нутра с тех пор, как она прочитала тот
сволочной американский журнал, всю ее сущность, жесткую,
безжалостную пятерню.
Они сидели на диванчике у него в
кабинете при тусклом свете настольной лампы пили чай с печеньем,
приспособив вместо стола стул для посетителей, и просто
разговаривали. Так, как не разговаривали никогда в жизни. Отец
рассказывал про свою молодость и первую жену, про Якова, про то,
как он работал синоптиком в Тифлисе, про ссылку и революцию. И про
маму… Что, наверное, он действительно виноват в ее смерти, не
уделял ей внимания, бывал груб… И было в его голосе что-то такое,
что заставило Свету просто обнять отца и, уткнувшись лицом в
колючий, пропахший табаком китель, заплакать. А он гладил ее по
голове своей сильной рукой, как когда-то в детстве, и шептал что-то
непонятное, но доброе и нежное на грузинском. И ей стало так тепло,
так хорошо и уютно. Захотелось забраться на этот маленький диванчик
с ногами и остаться здесь навсегда. И чтобы папа наливал чай и,
усмехаясь в желтые от табака усы, рассказывал свои интересные
истории.