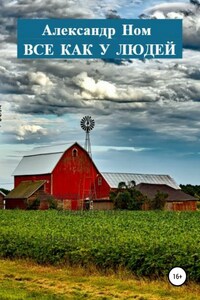Суббота–воскресенье, середина октября, Иоаннесбург
Люк Кембритч
Ставки сделаны, рулетка твоей собственной рукой раскручена так
мощно, чтобы не было ни единого шанса отгадать результат, и
стучит-скачет шарик судьбы, и жизнь замерла в ожидании: красное или
черное? Красное? Или черное?
И если ты счастливчик, и если рука твоя не дрогнула и ты
рассчитал усилие, то можно отвернуться на мгновение от
всепоглощающего, привычного азарта и прислушаться к себе, чтобы
понять: что в тебе заставляет раз за разом начинать игру снова и
повышать ставки, испытывая свою удачу?
Но игра уже начата, и нужно довести этот раунд до конца. И хотя
ты знаешь, что почти наверняка выиграешь, и вопрос лишь в том, что
и сколько ты поставил и насколько готов рискнуть, беспокойство все
равно поднимает голову. Все ли ты сделал правильно? Достаточно ли
все просчитал? Нет ли того, чего ты по самоуверенности своей не
заметил?
Люку снилась Марина в красном и черном. Она сидела на коленях
блакорийского мага, спиной к Кембритчу, обхватив любовника ногами,
сжав его черные волосы пальцами, и целовала.
Не трогай его, Марина. Не надо.
Светлые короткие волосы.
Будто светящаяся золотистая кожа.
Прошу. Не трогай.
Стройные ноги, напряженные бедра, изгиб тонкой спины.
Полустон оттуда. Где нет его.
Вокруг них дымчатым маревом пульсировала страсть.
Чужие руки на той, кого хочет он. Как она посмела?! Как он
посмел?!
«Я не твоя», — жестко сказала Марина, оглянувшись, и голос ее
подхватило эхо, и с каждой волной звука что-то било Люка в грудь,
что-то, похожее на желание убивать. Он задыхался от ярости, парил
на ней, раскинув руки, запрокинув голову, и ярость эта пульсировала
в голове, в кулаках, в груди, и реальность плавилась, сгорала в
ней, исчезала горьким едким дымом. Было горячо, ново и больно.
Он проснулся еще в темноте и лежал, глядя в потолок, чувствуя,
как болит после ночного загула тело. Затем встал, как был, нагим,
подошел к окну, распахнул его настежь, в осеннюю тьму и ветер, чуть
не сорвав мешающуюся штору. И закурил, чувствуя на груди и бедрах,
на всем своем сухощавом теле капельки моросящего косого холодного
дождя.
— Это и есть ревность, мой болезный друг, — сказал он себе
голосом Тандаджи и хрипло рассмеялся.
Телефон молчал. Кто бы сомневался, что она не приедет. Да и не
нужно это.