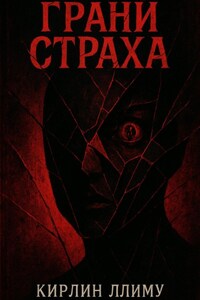Солнце над «ВторЧерМетом» было как желток дохлой птицы. Оно висело в белёсой, выцветшей от зноя небесной хмари и лило на ржавые горы металла не свет, а какую-то вязкую, густую усталость. Воздух пах горячим железом, отработанным маслом и пылью, в которой смешались десятилетия чужих жизней – перемолотых, спрессованных, забытых. Слава сидел на перевёрнутом ведре у порога их бытовки и курил.
Бытовка, сколоченная из чего бог послал – листов профлиста, старых дверей, куска брезента, – была их крепостью и их тюрьмой.
Он смотрел, как его младший брат, Костян, ковыряется в кишках доисторического «Москвича», пытаясь выдрать оттуда медную проводку. Костян двигался быстро, суетливо, как крыса, учуявшая дохлятину. Каждый его жест кричал: «Надо что-то делать! Надо шевелиться!».
Слава докурил, бросил бычок в лужу с радужной плёнкой мазута и почувствовал, как во рту появился знакомый ржавый привкус. Не от сигареты. Этот привкус жил у него во рту уже лет десять. С тех самых пор, как он вернулся с той войны, названия которой никто уже и не помнил. Война, где они так же потрошили подбитую технику в поисках чего-то ценного. Только там пахло ещё и горелым мясом.
– Блять, да что за хуйня! – взвизгнул Костян, выдёргивая руку из-под капота. На костяшках алела свежая ссадина.
– Тут всё сгнило к ебеням!
– А ты чего хотел? – хрипло спросил Слава, не поворачивая головы.
– Роллс-Ройс? Это сорок первый «Москвич». Он сгнил ещё на конвейере.
– Да хоть бы медь была, – Костян подошёл и плюхнулся рядом на ржавое крыло.
– Слав, нам бабки нужны. Срочно.
Слава молчал. Он и без него это знал. Бабки им были нужны всегда. Это было их перманентное состояние, как смена времён года.
Только у них было одно время года— вечная, беспросветная осень.
– Шрам звонил, – тихо сказал Костян.
Слава медленно повернул голову. Лицо у Костяна было как у побитой собаки – испуганное и одновременно пытающееся вилять хвостом.
– И чего?
– Сказал, заедет. Поговорить.
«Поговорить». Слава знал, что это значит. Шрам не говорил. Шрам – бывший мент, вылетевший со службы за то, что даже по ментовским меркам было перебором, – предпочитал другие методы убеждения. У него было лицо, словно собранное из кусков старого, потрескавшегося кирпича, и маленькие, глубоко посаженные глазки, которые смотрели на мир без всякого интереса. Кроме делового.