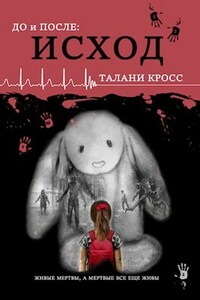Глава 1: Набросок судьбы
Осень в городе была не временем года, а состоянием души. Воздух, прозрачный и зыбкий, словно старинное стекло, искрился мельчайшей водяной пылью, оседая на шершавую кожуру опавших листьев, на холодный гранит парапетов, на непокрытые головы редких прохожих. Парк, еще неделю назад трещавший от зелени, теперь затих, укутавшись в молчаливую, многослойную пестроту увядания. Багрянец, охру, позолоту и уже проглядывающую сквозь них серую, правдивую основу мира. Ветра не было, лишь изредка самый нетерпеливый лист, сорвавшись с ветки, описывал в неподвижном воздухе медленную, совершенную параболу, чтобы лечь рядом с себе подобными и стать частью молчаливого ковра.
Вера сидела на складном походном стульчике, прислонив мольберт к массивной спине бронзового льва, охранявшего давно усохший фонтан. Пальцы ее, измазанные в умбре, сиене и кадмиевым красным, двигались с нервной, почти хирургической точностью. Кисть – продолжение руки, рука – продолжение взгляда, а взгляд был прикован к старому дубу на противоположной стороне аллеи. Она писала не дерево, а его душу, его осеннее умирание, которое было таким же буйным и торжественным, как и весеннее цветение. Она ловила последнее напряжение соков, запечатлевала упрямство коры, прощание каждого листа, который держался из последних сил, чтобы подарить миру свой финальный, самый пронзительный цвет.
Она была облачена в просторный серый свитер, с которого на колени сползали рукава, слишком длинные для ее хрупких запястий. Из-под свитера виднелся край белоснежной майки, а ноги были закутаны в потертые джинсы, испещренные пятнами краски – летопись прошлых работ. Волосы цвета темного шоколада, собранные в небрежный пучок, оставляли открытым длинный, нервный изгиб шеи, на которой золотой цепочкой висела кисточка – подарок Лео на прошлое Рождество. Лицо ее было бледным, почти прозрачным на фоне рыжей листвы, с тонкими, четко очерченными чертами, большими глазами цвета влажного асфальта, в которых сейчас плескалась вся осенняя меланхолия мира. В них читалась не просто задумчивость, а какая-то глубинная, выстраданная тишина, одиночество, которое она пыталась заполнить краской, линией, формой.
Она чувствовала себя частицей этого пейзажа, еще одним осенним явлением – тихим, наблюдательным, преходящим. Одиночество было ее привычным состоянием, коконом, из которого она являла миру свои творения. Она искала в окружающем мире те эмоции, которых ей так не хватало внутри, выписывала их на холст, пытаясь присвоить, сделать своими. Каждый мазок был вопросом, обращенным к миру: «Ты чувствуешь это тоже? Это только со мной?».