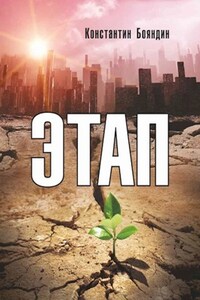Не помню где, кажется, под Рязанью, цвела черемуха. Цвела вовсю, неуемно, так жадно, что и сама стеснялась столь откровенной страсти и хотела бы сдержать себя – и не могла. Внутри веток соки словно бурлили и выплескивались густыми цветами, которые, не останавливаясь ни на мгновение, росли и созревали на глазах и тут же осыпались, и лепестки их кружились над кустами, как снежная метель, обдавая дурманящим запахом…
Все жило чересчур, и густая туча, давно державшаяся неподалеку, строго, но понимающе поглядывала на землю синими глазами, как бы думая, подойти ближе или нет. Но не спеша приблизилась и вот подала голос негромким, но долгим раскатом грома, затихшим над самой головой…
Чуть выждав, из левого ее крыла посыпался мелкий дождик, поблескивавший в лучах не успевшего скрыться солнца, и без того ошалевшая природа совершенно выплеснулась. Лес зашептался, деревья засуетились и словно побежали со своих мест, как дети из дому, чтобы побыстрей попасть под теплый дождик, и, запрокинув головы, ловили ртами его маленькие крупинки.
У нераспустившихся деревьев, казалось, на бегу лопались почки, выстреливая острыми листиками, которые мгновенно обсыпали ветки. Даже дубы, похожие на старцев, тоже готовы были побежать, и едва сдерживали напор соков, забурливших в теле ствола. Во все голоса галдели птицы. Все кувыркалось, стонало и радовалось, и лес словно кружился от страстей, и не было в нем ни старых, ни молодых, а все начинало жить только что – и впервые… Будто расстелив скатерти, под каждым кустом и на каждой полянке пировал только что пробудившийся – и пока еще не доросший до Амура – Амурчик. И улыбался захмелевшими, лукавыми глазами и подмигивал, и говорил, протягивая мне свою чашу: «Ну, что ты? На, выпей. Такое время. Май…»
И удивлялся моей нерешительности и скептической усмешке, словно забыв, что он-то вечен, а я всего лишь человек, и мне время отмерено необратимо…
Снег валил густо, неторопливо, старательно, будто промывал воздух перед праздником Рождества. Всё вокруг стало чище, белее, мягче и невольно светлее… А сам город, казалось, как-то благоговейно онизился и не рычал, не мчался, как обычно, а сдержанно шелестел, опростился, будто чувствуя, что перед Рождеством Христа неуместно величаться никакими земными титулами, и выглядел не великолепным, не вашим сиятельством, не имперской столицей, а простодушным, по-домашнему уютным и благочестивым, как большое и старинное российское село, утонувшее в сугробах…