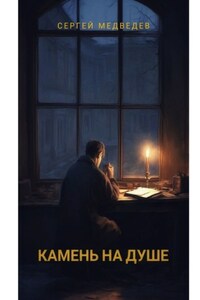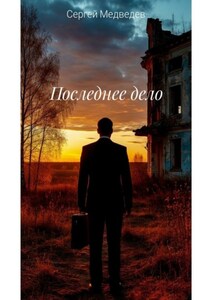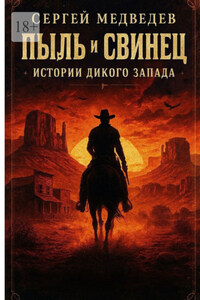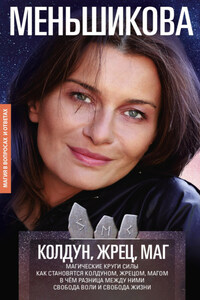В те дни, когда осенний Петербург окутывался туманом, словно саван, скрывающий язвы и гниль великого города, в одной из тех угрюмых квартир на четвертом этаже доходного дома на Гороховой улице, где каждая ступенька скрипела под ногами, как совесть грешника, жил Егор Алексеевич Кремнев – бывший семинарист, а ныне переписчик бумаг в одном из департаментов.
О, как низко пал этот человек! Когда-то он знал наизусть целые главы из Священного Писания, мог часами рассуждать о божественном промысле и человеческой душе, а теперь… теперь он с утра до вечера выводил безжизненные строки, переписывая казенные бумаги за гроши, едва хватавшие на хлеб и каморку в доходном доме. Тридцать два года – и что за этими годами? Пустота, безысходность, и эта мучительная, раздирающая душу борьба между тем, во что он когда-то верил, и тем холодным, рассудочным скептицизмом, который, как яд, проникал в его сердце.
«Бог… есть ли Бог?» – эта мысль преследовала его днем и ночью, не давала покоя, терзала, как голодная собака терзает кость. В семинарии он был уверен – конечно, есть! Как можно сомневаться в существовании Творца, когда каждый восход солнца, каждый цветок, каждое биение сердца свидетельствует о Его величии? Но годы жизни в Петербурге, годы нищеты, унижений, созерцания человеческой подлости и равнодушия – все это словно точило его веру, как вода точит камень.
В этот промозглый октябрьский вечер Егор Алексеевич сидел в своей каморке, освещенной единственной сальной свечой, и переписывал очередную бумагу о казенных недоимках. Его худые пальцы, почерневшие от чернил, механически выводили буквы, а мысли блуждали где-то далеко, в тех глубинах души, куда он боялся заглянуть.
«Что я такое? – думал он, отложив перо и глядя на дрожащий огонек свечи. – Червь, пресмыкающийся в пыли… Нет, хуже червя – червь хотя бы не знает о своем ничтожестве, а я знаю, я чувствую всю мерзость своего существования!»
Он встал и подошел к единственному окну своей каморки. За стеклом, покрытым инеем, виднелся двор-колодец, черный и сырой, как могила. Где-то внизу слышались пьяные крики, плач ребенка, ругань. Вся эта симфония человеческого страдания и порока поднималась вверх, к самому небу, которое, впрочем, было скрыто густыми тучами.