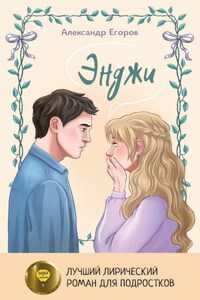— Я вернусь и уничтожу вас, — сказала она тогда.
— Уничтожите, — легко согласился Архаров. — Но для этого вам
надо вернуться.
Всю дорогу Анна крутит и крутит этот разговор в голове, как и
долгих восемь лет прежде. Она почти не видит мелькающих за
вагонными стеклами станций, не смотрит на людей — их слишком много
вокруг. Такие громкие, такие яркие.
Закрыть глаза — страшно, открыть — слепит. Чем ближе к столице,
тем публика приличнее. Нет больше бородатых одичалых мужиков и
грубых злобных баб, сплошь зонтики и картонки, и все подряд нынче
носят полоску, и мир почти не изменился, но все же, но все же…
У нее лишь потрепанная холщовая сумка, в которой одиноко
болтается помятая кружка, смена застиранного белья и пачка
неотправленных писем. Первое время Анна строчила, как сумасшедшая,
— Ванечке-Ване, блистательному Ивану Раевскому, а потом апатия
взяла свое, и писать расхотелось. Некуда и некому отправлять эти
наполненные тоской страницы.
В кармане старого байкового пальто — отпускное свидетельство с
печатью отдельного корпуса жандармов, где крупными буквами
выведено: КАТОРГУ ОТБЫЛА.
Кажется: все сон. Проснешься, а ты снова посреди льдов и
бесконечной полярной ночи, и старик Игнатьич скрипит за стеной, а
биение сердца заменяет ритмичный стук главного распределительного
клапана. Ровно шестьдесят ударов в минуту — они отмеряли ими дни,
недели, годы.
Анна вздрагивает и запрещает себе вспоминать. Станция «Крайняя
Северная» осталась далеко позади, она уплыла от нее в трюме с
бочками и ящиками, и льдины царапали обшивку маленького дежурного
судна. Она уезжает от него на паровозе — третий класс, жесткая
деревянная лавка, клубы угольного дыма и горький чай. Очень хочется
сахара — ложки три, не меньше, но Анна только смотрит на
заплеванный пол перед собой и не позволяет тратить последние
медяки.
Она почти вернулась. Осталось — уничтожить.
***
Столица встречает неласково, холодным ветром и изморозью дождя.
Анне некуда больше идти, не к отцу же, отрекшемуся от нее на суде,
в самом деле. Но бродить под дождем — слишком жалко, и она спешно
листает улицы, неосознанно стремясь туда, где когда-то была так
счастлива.
Это бьет наотмашь, в самую грудь: дом все такой же нарядный,
сияет огнями. Анна смотрит, не веря глазам, а за шторами двигаются
люди, и кажется, вот-вот Раевский выйдет на балкон с неизменным
фужером игристого, перебрасываясь с насмешницей-Софьей остроумными
замечаниями. Ольга, угрюмая как обычно, притопает следом — она
всегда таскалась за Ванечкой по пятам, как преданная собачонка.