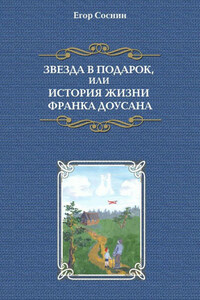Уже окончательно угасший было закат вдруг обагрился взметнувшимся ввысь пламенем, и небосвод, на котором оно разгоралось, стал похож на внезапно открывшуюся рану, охваченную почерневшими от пороховой гари бинтами туч. Казалось, что сейчас в ее пульсирующем кратере, словно в разрезе гигантской вены, вскипает вся та кровь, которой давно пресыщена земля и которую уже не способны остудить ни свинцовый холод фронтовой смерти, ни вселенский могильный страх, ни космическая безучастность небытия.
И возникший из поднебесья, будто мираж, небольшой военно-спортивный самолет долго метался между полем аэродрома и сумрачной вечерней дымкой, низверженный с небес и не принимаемый землей, и трудно было поверить, что найдется сила, способная остановить эту машину, все тянувшуюся и тянувшуюся к багрово-синему, обрамленному кронами небольшой рощи, разлому горизонта. Как случилось, что машина не вошла в его испепеляющее пламя, очень напоминающее сейчас фрагмент провидческой картины судного дня, – этого Скорцени понять уже не мог.
– Берлин, господин гауптштурмфюрер[1], – вежливо напомнил пилот, спустя несколько минут после того, как мотор затих и в небольшой кабине воцарилась непривычная тишина. – Полет окончен.
Скорцени лишь на какое-то мгновение взглянул на него и снова перевел взгляд на горизонт.
Пока он мрачно всматривался в эту разверзшуюся очистительным огнем преисподнюю, лицо его, с обращенной к пилоту изуродованной щекой, казалось ритуальной маской, грубо вытесанной из потемневшего и щедро усеянного трещинами-морщинами старого дерева.
Еще утром, когда этот двухметрового роста с широкими покатыми плечами эсэсовец с трудом втиснулся в кабину его самолета, на сиденье пилота-инструктора, летчика почему-то охватило странное предчувствие обреченности. Предчувствие, ничуть, однако, не напоминавшее обычный суеверный страх, который время от времени охватывал его при самой мысли о том, что один из полетов на ничем не защищенном самолетике по фронтовому небу может закончиться встречей с ангелами.