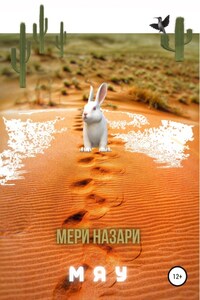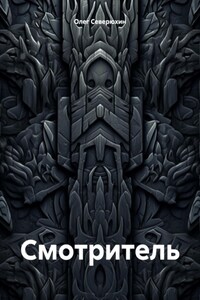— Поезд прибывает на станцию Марпери, поезд дальше не идёт.
Динамик кашлянул и затих, и сразу за этим в вагоне погас свет.
Грохот колёс сменился взвизгом тормозов, меня качнуло вперёд, а
затем откинуло на сидение так, что клацнули зубы. Щёлк, щёлк, щёлк
— в кабине машиниста переключались кристаллы, и, наконец, с лязгом
открылись двери.
Я засуетилась, выкатилась на пустой перрон и с наслаждением
вдохнула полной грудью.
Пахло ёлками, разгорячённым металлом, листвой, собачьей мочой,
колодезной водой, застиранным бельём, чужой болезнью, промышленным
отбеливателем и немножко плесенью, — какофония запахов, которая
обозначает для меня дом. Какое-то время я стояла на разбитом
асфальте перрона, слушая и растворяясь, привыкая к старой себе,
которую я как будто бы оставила на вокзале два дня назад, чтобы
теперь ступить обратно в собственную тень и наново с ней
срастись.
Это было почему-то больно, как будто тень была тяжела, и
пришивала её ко мне Полуночь длинной костяной иглой из сказки о
потерявшихся в пещере смерти детях. Я почти чувствовала, как она
колет пальцы ног, и как наваливается от этого на плечи тяжёлое,
мрачное ощущение, и как тянет вниз дорожная сумка.
На самом деле я просто отсидела ноги.
Я тряхнула головой, переступила с ноги на ногу, переложила сумку
в левую руку и побрела вперёд, вглядываясь в рваные тени щебня.
Идти было далеко, и немногочисленные пассажиры того же поезда
обогнали меня на добрую половину перрона. Они, наверное, скинутся и
поедут с Бихором, единственным на весь городок таксистом.
Тёмное здание вокзала возвышалось над нами тяжёлой громадой
мёртвых окон. С крыши скалились высокие металлические буквы,
различимые на фоне угасшего неба: «МАРП РИ»; у входа мигал одинокий
фонарь, автобус давно уже не ходил, и торопиться было некуда. Дойду
и пешком, не сахарная; даже и лучше, что никто не станет задавать
одни и те же вопросы, от которых колет в груди.
Почему, Полуночь? Почему? Неужели моё время всё ещё не
пришло?
И придёт ли оно вообще хоть когда-нибудь?
Таких, как я, называют одиночками (а ещё, бывает, «перестарками»
— но это говорить вроде как нехорошо, и вслух такое ляпнет только
старая Левира, язык которой жалит больнее иных зубов).
Однажды, в самую долгую ночь, когда небо горит тысячами цветных
силуэтов, мы бежим среди них, чтобы поймать за хвост своего зверя.
Так мы становимся двоедушниками, и с той Охоты у тебя есть судьба,
собственный запах и ожидание той самой встречи — с человеком,
который заменит тебе небо.