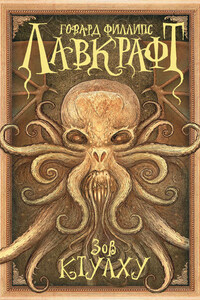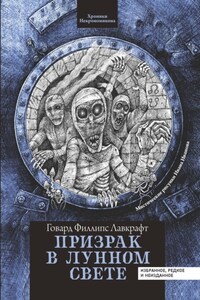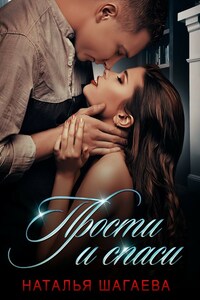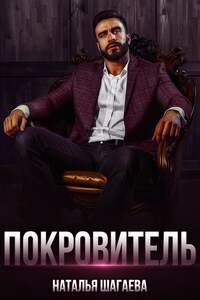По поводу сна, этой скверной еженощной авантюры, можно сказать лишь одно: люди, ложась спать, каждый день проявляют смелость, которую трудно объяснить иначе, как непониманием подстерегающей их опасности.
Бодлер[1]
[2]
Да хранят меня милостивые боги, если, конечно, они существуют, в те часы, когда ни сила воли, ни наркотики, это коварное изобретение человека, не могут удержать меня, и я проваливаюсь в бездну сна. Смерть милосерднее: оттуда нет возврата, но тот, кто поднялся с самого дна сонной бездны, осунувшийся и осознавший происшедшее, никогда больше не ведает покоя. Какой я был дурак, что ринулся с непростительным азартом в таинственную область, куда закрыт доступ человеку. А кто был он – дурак или бог, мой единственный друг, который проник туда раньше и ввел меня в искушение? В конце его ждала жестокая расплата, быть может, она ждет и меня!
Вспоминаю, как мы познакомились на железнодорожной станции, где он приковал к себе внимание толпы зевак. Он находился в глубоком обмороке, и это придавало ему, худощавому, облаченному в черный костюм, удивительную строгость. На вид ему было лет сорок: глубокие складки залегли на бледном овальном лице; несмотря на некоторую худобу, в нем все казалось прекрасным, даже легкая проседь в густых вьющихся волосах и небольшой бородке, некогда цвета воронова крыла. Лоб был божественной формы и цвета пентелийского мрамора.
Я со всей страстью скульптора представил себе, что это не человек, а скульптура фавна из античной Греции, извлеченная из земли под руинами храма, которую оживили неизвестно каким образом в наш душный век, чтобы он постоянно ощущал пронизывающий холод и разрушительную силу времени. А когда он открыл огромные, горящие лихорадочным блеском глаза, я уже наверняка знал, что отныне он мой единственный друг – единственный друг человека, у которого никогда прежде не было друга. Такие глаза, несомненно, видели величие и кошмары за пределами обычного сознания и реальности. Я сам лишь лелеял мечту постичь запредельное – и напрасно. Разогнав толпу ротозеев, я предложил незнакомцу свое гостеприимство и положение своего учителя и наставника в области непознанного. Он безоговорочно согласился. Потом я обнаружил, что у моего друга мелодичный голос, глубокий, как звуки виолы и кристаллических сфер. Мы часто беседовали – и вечерами, и днем, когда я высекал из мрамора его бюсты и резал миниатюры из слоновой кости, пытаясь запечатлеть различные выражения его лица.