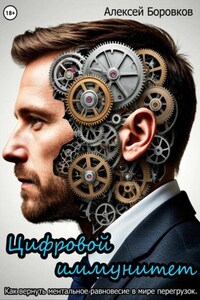Они не проснулись в тот день.
Они поднялись. Из сырой земли окопов, с соломенных наметов походных биваков, от догорающих костров, в которых шипела последняя картофелина. Они поднялись в предрассветной мгле, застегивая мундиры на окоченевшие пальцы, поправляя кивера, крестяясь на тусклеющие звезды.
Армии? Нет. Армия – это абстракция, чернильная клякса на карте генерального штаба. Здесь же, на Бородинском поле, сошлись не армии.
Сошлись люди.
Петр, мечтающий уйти в отставку и выращивать яблони в Крыму. Жан, вчерашний парижский школяр, бьющий в барабан, чтобы заглушить собственный страх. Анна, впервые видящая, как пуля вырывает из человека не абстрактную «жизнь», а теплую, бьющуюся плоть. Филипп, для которого война стала единственной профессией, и он уже забыл, пахнет ли мир чем-то иным, кроме пороха и пота.
Один день. С пяти утра до десяти вечера. Несколько тысяч минут. Не хронология сражения, где «в 11:00 началась кавалерийская атака», а живой, дышащий, стонущий организм. Где выстрел, прозвучавший на левом фланге, через тридцать секунд отзывается паникой на правом. Где дым от сгоревшей деревни застилает глаза императору. Где шутка, брошенная генералом, снимает напряжение у сотни солдат. Где один крик – «Ура!» или «Vive l'Empereur!» – на секунду сливает тысячи голосов в единый рык, от которого содрогается земля.
Эта книга – не история о битве. Это попытка оживить один день. Увидеть его не с высоты командного пункта, а из глазной щели солдата, целящегося в другого солдата. Услышать его не как грохот канонады, а как стук собственного сердца, хриплый шепот молитвы, лязг штыка о кость.
Они сошлись. Не армии – люди. Каждый со своей тоской, храбростью, трусостью, любовью к чужому, давно забытому яблоку в чужом саду.
И земля содрогнулась от их шагов.
Прислушайтесь. Они идут.
05:00 – 05:20
Русские окопы у Шевардинского редута
Туман лежал пластами, белым и сырым саваном, выедающим краски мира. Он пожирал расстояние, звук, время. Из него, как призраки, проступали бледные лица, спина соседа, дуло воткнутого в землю штыка. Воздух был густым и холодным, им было трудно дышать, он обжигал легкие колкой изморозью.
Семен «Сибиряк» сидел на корточках, водя по точильному камню лезвие своего штыка. Ш-ш-ш-ш-шк. Ритмичный, почти медитативный звук, нарушавший гнетущую тишину ожидания. Каждый провод – твердый, с упором на основание, будто он сдирал с металла не ржавчину, а плоть. Он не точил острие, он снимал утреннюю ржавчину страха.