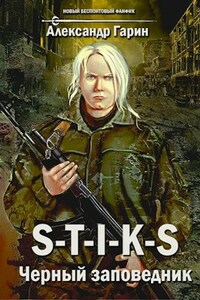Боги умерли. Он в этом убедился. Не в тот день, когда римский папа взирал на него с немым укором в соборе Нотр-Дам. Не тогда, когда русский зимний ветер выл ему в лицо, словно насмехаясь над титулом «Бог войны». И даже не в ту секунду, когда граф Марсового поля Нeй, его «храбрейший из храбрых», замер в нерешительности, обрекая его мир на гибель.
Он убедился в этом сейчас. Здесь. На этом клочке базальта, затерянном в безразличных водах Атлантики, который англичане с издевательской торжественностью нарекли Святой Еленой. Ад – это не огонь и скрежет зубовный. Ад – это скука. Это бесконечное, выцветшее небо, под которым ты, менявший границы империй, не властен даже над порцией прогорклого масла к ужину. Это тиканье часов в гостиной «Лонгвуда», отмеряющих не время, а его медленное, унизительное растворение в ничто.
Он стоял у окна, втиснувшего в свой формат кусок одинакового пейзажа: унылый склон, несколько покореженных ветром деревьев, вечно пасшуюся на лужайке корову. В руке он сжимал последнее письмо. Не от императрицы. Не от сына. От бывшего секретаря, который из вежливости сообщал о новых парижских сплетнях. Бумага пахла морем, но не тем, корсиканским, пахнущим свободой и жаждой, а затхлым, соленым запахом тюремной сырости.
Он разжал пальцы. Письмо упало на пол. Он повернулся и взглянул на свое отражение в затемненном стекле окна. Там на него смотрел не император. Не гений войны. Не Последний Римлянин. Смотрел пухлый, лысеющий мужчина в потертом сюртуке, с желтоватым цветом лица и глазами, в которых плавилась ярость, отточенная до состояния ледяного, всепроникающего отчаяния.
«Какая ирония», – промелькнуло в сознании обрывком фразы, которую он когда-нибудь запишет.
Он прошел к столу, заваленному картами, которые больше никуда не вели, и рукописями, которые были не мемуарами, а оружием в его последней битве – битве за Память. Он отодвинул их. Из потайного ящика он извлек толстую, переплетенную в грубую кожу тетрадь. На обложке не было ни имени, ни титула. Только одно слово, выведенное его рукой: «ОДИНОЧЕСТВО».
Он открыл ее. Страницы, испещренные его стремительным, угловатым почерком, хранили запах ладана из Нотр-Дама, пороха Аустерлица и ледяного дыхания Березины. Это был не дневник. Это был суд. Суд над самим собой. И над миром, который оказался слишком тесен для его мечты и слишком велик для его поражения.