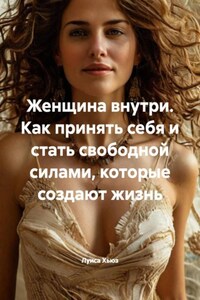Телефонный звонок в пять утра – это всегда мертвец. Иногда два. Звонок впился в вязкую ткань сна, как заноза, и я, не открывая глаз, уже знал, что день начался со смерти. Он не просто разбудил, он вырвал меня из короткого забытья, где не было ни запаха дешевого табака, ни горького привкуса вчерашнего чая.
Трубка была холодной и тяжелой, как пистолет.
– Волков, – хрипло бросил я в нее.
– Аркадий Семенович? Дежурный. У нас ЧП на Коминтерна. Продмаг номер восемнадцать. Налет.
Голос на том конце провода был молодым, взвинченным, еще не привыкшим к тому, что человеческая жизнь может стать просто «ЧП».
– Жертвы есть? – спросил я, нашаривая на тумбочке пачку «Беломора».
Пауза. Значит, есть.
– Двое, товарищ капитан. Сторож и… вроде как кассирша. Наши уже там.
Я выбил папиросу, сунул в угол рта.
– Еду.
Весна в Горьком – это не про ручьи и подснежники. Это про грязную кашу под ногами, про серый, ноздреватый снег, пропитанный сажей заводских труб. Этот снег не таял, он просто становился чернее и тяжелее, словно вбирал в себя всю городскую тоску, прежде чем окончательно сдохнуть в придорожных канавах. Наш служебный «козлик» подпрыгивал на колдобинах, и каждая яма отдавалась тупой болью в затылке. Водитель, молодой сержант Синицын, молчал, крепко вцепившись в баранку. Он знал, что по утрам я неразговорчив, особенно когда еду смотреть на покойников.
Я смотрел в окно на просыпающийся город. Он напоминал огромный, застуженный механизм, который со скрипом и скрежетом начинал свой очередной бессмысленный оборот. Брели к проходным закутанные в одинаковые пальто фигуры, дымили трубы автозавода, и этот дым смешивался с низкими, свинцовыми облаками, создавая купол, под которым всем нам предстояло прожить еще один день. В этом городе правда была дефицитом похуже финского сервелата. Ее не «выбрасывали» на прилавки, за ней не стояли в очередях. Ее просто не было в номенклатуре.
Продмаг №18 притулился между двумя пятиэтажными «хрущевками». Типичный стеклянный кубик советской торговли, ночью превращавшийся в темный, безжизненный аквариум. Сейчас вокруг него роились люди. Несколько милицейских машин, «скорая», похожая на большую белую таблетку, которую уже поздно давать больному. И, конечно, зеваки. Они стояли молча, с одинаково жадным и испуганным выражением на лицах, втягивая ноздрями запах чужой беды. Молоденький лейтенант из местного отделения отдал мне честь, отгоняя особо любопытную старушку.