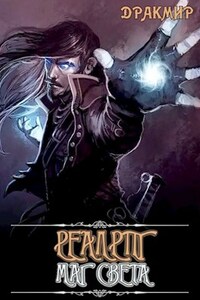Работая над архивными каталогами для своей предыдущей книги Пурпур и Пепел, которая была начата с находки, и родилась из потерь,, я наткнулся на упоминание о коллекции, конфискованной преторианцами в ночь убийства Гая Цезаря. Среди кинжалов, подушек, пропитанных кровью, и протоколов допросов значился один неопознанный предмет: «свиток личных заметок, не подлежащий огласке, по приказу нового принцепса». И – пометка на полях другим почерком: «Сохранено для Себя. Не для Истории».
Следы этого свитка терялись на семнадцать столетий, пока его фрагмент, написанный на испорченной латыни с греческими вкраплениями, не всплыл в 1920-х годах в составе архива одного римского букиниста как «дневник неустановленного лица эпохи Юлиев-Клавдиев». Его сочли плохой подделкой или бредом сумасшедшего – слишком много было ярости, страха и непристойных откровений. Его продали с молотка как диковинку, и он исчез.
Мне в руки попала лишь папка с несколькими фотокопиями тех самых страниц, купленная на римском блошином рынке. Не артефакт, а его тень. Не документ, а крик из прошлого, который никто не захотел услышать.
Последние пять лет я потратил на то, чтобы этот крик обрёл голос. Я сравнивал каждый обрывок фразы с трудами Светония, Тацита, Диона Кассия. Я изучал протоколы сенатских заседаний, письма и надписи того времени. Пугающе часто безумные обвинения из «Дневника» находили своё косвенное подтверждение в сухих строчках хроник. Абсурд обретал логику. Безумие – причину.
Эта книга – не историческое исследование. Это – психологический портрет, написанный в луже крови и слез. Все диалоги, мысли и сцены – плод моей реконструкции, рождённой из того самого забытого всеми фрагмента, чью подлинность я не могу доказать, а вы – опровергнуть.
Я не историк, нашедший опровержение. Я – рассказчик, поверивший в боль одного человека. И теперь я прошу вас поверить в неё вместе со мной.
Будьте готовы. Даже вымысел, основанный на такой боли, может оставить шрам.
Филипп Ламберт
Сентябрь, 2025 г.
Запись в «Свитках Друза»:
«Первое воспоминание моего брата – не лицо матери, не колыбель, а запах. Запах влажной шерсти плащей, кислого вина из фляг и окисленной крови на наконечниках пилумов. Он родился не в палатах из мрамора, а в походной палатке, и его первой колыбельной был бряцань оружия. Легионеры, эти грубые исполины в железных кожухах, дали ему имя, которое стало пророчеством, выкованным из насмешки и стали: Caligula – «Сапожок». Но даже тогда, ребенком, наблюдая за ним из-за спины няньки, я чувствовал: это не имя. Это маска. И однажды железо из подошв прорастет вверх, к сердцу».