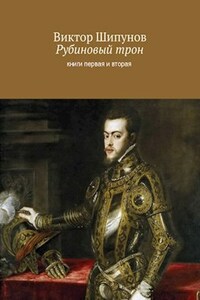Вечерняя молитва богу по имени «Урара» угасла, растворившись под высокими, равнодушными сводами святилища, как дымка от кадила. Последний отзвук затих, и в наступившей гулкой тишине поп бога «Урара» Есенин ощутил знакомый, тягучий голод. Не по еде. Не по сну. Голод по ней.
Он думал о своей девочке. Его девочке. Никто не смел даже смотреть на нее так, как смотрел он. Каждый чужой взгляд он ощущал как грязный, сальный отпечаток на чистейшей иконе, которую он один имел право омывать и которой мог молиться. Он оберегал ее не от мира – он оберегал мир от искушения обладать ею, а ее – от греха поддаться. Эта любовь была его тяжелым крестом и его единственной усладой. Только его руки могли касаться ее кожи, только его семя – окроплять ее лоно, запечатывая ее душу для него одного. Иногда, конечно, змей находил щель в его эдемском саду. Случайный взгляд, брошенный ею на какого-нибудь уличного юнца, улыбка, слишком долго задержавшаяся на ее губах в ответ на любезность торговца, – и Есенин видел в этом не девичье кокетство, а прорыв адского легиона. Тогда он вел ее в подвал.
Сырой холод камня встречал их. Он срывал с нее платье, и подрагивающая нагота ее тела в свете одинокой лампочки казалась хрупкой и беззащитной. Он брал в руки плеть, и каждый удар был не наказанием, а обрядом очищения. Он выжигал скверну, изгонял беса, который посмел коснуться его святыни. А потом, когда ее кожа горела алыми полосами, а всхлипы становились тише, он расстегивал штаны и, глядя на свое творение, на свою очищенную, покорную девочку, изливал на нее свою страсть, свою ярость, свою любовь. Он не причинял ей вреда. Он ее спасал. Вот уже двадцать лет.
Две недели она была паинькой. Две недели его рай был безмятежен. И сейчас, после службы, он жаждал не обряда в подвале, а тихой гавани их кровати. Ему хотелось зарыться лицом в ее волосы, пахнущие ладаном и яблочным шампунем, провести пальцами по гладкой спине, почувствовать ее тепло. Уснуть, обняв свое сокровище. Эта мысль грела его, пока он шел к машине сквозь стылый вечерний воздух, который цеплялся за рясу, будто пытался удержать.
Дверь машины хлопнула, отрезав его от мира. Мотор ровно заурчал. Но что-то пошло не так. Мир не просто исчез – он вывернулся наизнанку.
Пробуждение было ударом. Не в голову, а сразу в душу. Тьма. Не просто отсутствие света, а плотная, маслянистая субстанция, которая лезла в рот, в ноздри, в уши. И холод. Холод каменного пола, который пил тепло из его костей, просачиваясь сквозь одежду, въедаясь в плоть. Руки и ноги стягивали кандалы, их тяжесть была унизительной, животной. Он попытался крикнуть, но из горла вырвался лишь задавленный мык – кляп лишал его голоса, его главной силы.