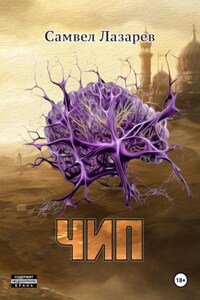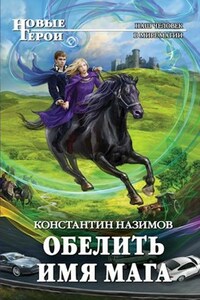I. Подземелье
Холод январского утра 1826 года проникал сквозь узкое зарешёченное оконце Алексеевского равелина, оседая на каменных стенах темницы тонким слоем инея. В камере № 7 Сергей Волконский лежал на голых нарах, разглядывая влагу, проступившую сквозь треснутую штукатурку потолка, скованную морозом и смутно напоминавшую карту Сибири, куда, быть может, ему скоро предстояло отправиться. Если не повесят вместе с остальными.
Совсем недавно на Сенатской площади трепетали знамёна, три тысячи человек кричали в едином порыве: «Конституцию!» Гремели голоса, но их заглушал грохот орудий. Он поёжился, сжал окоченевшие пальцы в кулаки, разгоняя кровь. Здесь, в тюрьме, время текло иначе, не так, как на свободе – не по часам, а по шагам часовых за дверью, по редким появлениям тюремщиков, каждое из которых могло стать последним.
«Мы мечтали о законе, а получили каменную тишину. Жаждали открытого суда, а нас ждёт тайная комиссия, чьи решения не подлежат обжалованию. Верили в диалог с государем, а вместо этого слушаем монотонный голос унтера», – думал Волконский, закрыв глаза, и перед ним вновь вспыхивали образы того дня: дым, крики, блеск штыков на фоне серого неба. «Ирония судьбы? Или неизбежность?»
В каземате стояла тишина. Лишь капли воды, срываясь с потолка, отбивали ритм, словно часы, отсчитывающие мгновения между прошлым и неизвестным будущим.
– Сергей… – шёпот из соседней камеры, где находился Иван Пущин, походил на скрип ржавых петель. – Рылеева увели. Третий час нет…
Волконский молчал. Он слышал, как конвой грубо поднял поэта-декабриста, чьи стихи знала вся просвещённая Россия. Слышал приглушённые стоны, когда того вели по коридору.
Дверь отворилась с лязгом, нарушив гнетущую тишину. В проёме стоял унтер-офицер Смирнов – невысокий, коренастый мужчина с лицом, на котором годы службы вырезали сеть морщин, а бессмысленная жестокость тюремной системы наложила печать вечной усталости. В руках он держал жестяную миску с похлёбкой, пар от которой смешивался с морозным воздухом подвального помещения.
– По распорядку, ваше благородие, – пробормотал унтер, избегая встретиться взглядом, словно стыдясь своей роли в этом театре абсурда.
Сергей медленно поднялся, чувствуя, как каждое движение отзывается болью в закоченевших суставах. Ещё в первые дни заключения он заметил: Смирнов, в отличие от других тюремщиков, выполнял обязанности без лишней жестокости и садистского удовольствия, которое читалось в глазах иных стражников.