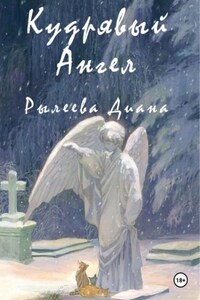В самых потаённых, проклятых недрах этого каменного чрева, выстроенного из монолитного, бездушного бетона, где воздух не просто был тяжел, но и густел, обретая плотность ядовитого, смертельного эликсира, пропитанного вековой пылью, едким запахом ржавчины и сырой, липкой землей, проснулись двое. Это пробуждение было нежеланным. Мучительным, словно рождение в адской утробе, где каждый вдох означал погружение в ещё большую, невыносимую боль. Погружение в ещё более глубокую, бездонную бездну отчаяния, из которой не было выхода. Лишь глухое, сырое эхо их собственного ужаса. Оно множилось от каждой беспокойной мысли. От каждого едва слышного шороха. От каждого удара сердца, отсчитывающего последние, угасающие мгновения их прежней, уже невозвратной, мирной жизни, растворяющейся в предрассветном тумане кошмара, который теперь стал их единственной реальностью, их приговором.
Сначала – рыжеволосый парень двадцати четырех лет, Родион, чья юность, ещё недавно бурлившая мечтами, амбициями и яркими красками будущего, казалась теперь лишь насмешкой судьбы, хрупким, полупрозрачным, почти стёртым воспоминанием о давно утерянном мире, о жизни, которая была лишь сном, рассеявшимся в этом кошмаре, словно утренний туман под первыми, призрачными лучами солнца, которого здесь не было и быть не могло, и его отсутствие давило на него с нечеловеческой, невыносимой силой, вызывая панический холод.
Он резко, судорожно вдохнул затхлый, едкий воздух. Этот воздух жег легкие и горло, словно раскаленным железом. Оставлял послевкусие разложения и страха. Въедался в слизистые оболочки. Отравлял кровь. Наполнял каждую клеточку его существа отвращением и чистой, первобытной паникой, пытаясь отогнать накатившую дурноту, превращая мысли в вязкую, беспорядочную массу, лишенную всякой логики, кроме первобытного, животного страха и неукротимого, отчаянного желания выжить, любой ценой.
Он вскинул голову, словно зверёк, застигнутый врасплох в чужой, тёмной, враждебной норе. Каждый шорох казался угрозой, каждый звук – предвестником беды, а каждое движение – потенциальной ловушкой, способной поглотить его целиком, стереть его с лица земли, не оставив следа, не оставив даже тени, даже эха его имени в безмолвии веков, в абсолютном ничто.
Его волосы, некогда яркие, словно языки затухающего пламени, теперь лишь едва мерцали в редких, тонких прорехах тьмы, сквозь которые проникал призрачный, мёртвый свет, рождённый одной-единственной, скудной, едва тлеющей лампочкой под потолком, словно глаз какого-то древнего, слепого, бездушного существа, наблюдающего за страданиями, за медленным умиранием.