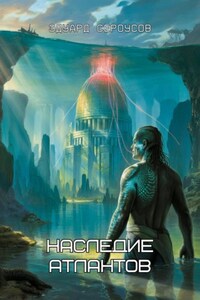Городок просыпался медленно, нехотя, словно зевая в ладонь. Пятьдесят тысяч душ – не то чтобы мало, но и не много: здесь все ещё знали друг друга в лицо, а новости передавались со скоростью сплетен. Утро, отдав дань час-пику, сдулось и растекалось по улицам ленивым солнечным сиропом. Воздух был влажным и сладким – пахло раскрывающимися почками, асфальтом, омытым ночным дождём, и чужой жизнью из приоткрытых окон. Машины, редкие, как забытые мысли, проплывали мимо, оставляя за собой дрожащие миражи на нагретом брусчатом покрытии. Пешеходы – пенсионерка с сеткой-авоськой, подросток в наушниках, женщина, нервно проверяющая телефон – двигались по своим маршрутам.
Василиса жила в мире, где старалась занимать как можно меньше места. Двенадцать лет – возраст, когда одни дети расцветают, а другие, будто втягивают голову в плечи, надеясь стать невидимкой. Ее золотистые волосы, собранные то в неловкие хвостики, то в трепетные косички, мама все еще заплетала их по утрам, походили на солнечные блики – такие же недолговечные и дрожащие. Когда она редко улыбалась, на щеках появлялись ямочки – два аккуратных углубления, будто кто-то осторожно надавил пальцами на мягкое тесто. Три крохотные, едва заметные, родинки на левой щеке, расположенные в форме равнобедренного треугольника, казались отметинами из другого мира. Ее зеленые глаза, цвета молодых листьев на старых деревьях, чаще смотрели куда-то в даль. В классе она была "тихоней Василиской", девочкой, которая знает ответ, но поднимает руку только когда учитель настаивает. Дома – послушной дочерью, которая не спорит, когда мама говорит "надень шапку", хотя на улице уже тепло. Но были в ее жизни два человека, для которых она была не просто Василисой, а Васильком. Бабушка, чьи сказки пахли мятными леденцами и старыми книгами. А придуманные ей рассказы, пугали странностями и таинственностью. И дед… Его деревянные фигурки – медведи, птицы, и множество других, порой странных персонажей – жили у нее на полке, напоминая, что несовершенное может быть дороже идеального. И никто, абсолютно никто не знал, что иногда, когда Василиса оставалась одна перед зеркалом в прихожей, ее отражение… задерживалось на секунду. Всего на одну секунду. Но этого было достаточно…
Вечерний воздух дрожал от огней и смеха, когда передвижной парк аттракционов ворвался в город, как пестрый призрак. Василиса шла между подругами, чувствуя, как её ладони становятся липкими не от сахарной ваты, а от какого-то странного предчувствия. Слева шагала Катя – её рыжие кудри, выбившиеся из-под вязаной шапки, казались медными в свете гирлянд, а россыпь веснушек на переносице становилась особенно заметной, когда она смеялась. Справа Лера, по привычке накручивающая на палец соломенную прядь своих светлых волос, то и дело одёргивала Василису за рукав: "Смотри, там карусель!". Яркие гирлянды мигали в такт ускоряющемуся сердцебиению. Комната смеха встретила их волной искажённого эха. Катя первая вбежала внутрь, оставив за собой шлейф рыжего шарфа, а Лера, морща свой аккуратный носик, осторожно переступила порог. Кривые зеркала выстраивались вдоль стен, словно ряд шутов на королевском приёме – каждый со своим особым искажением.