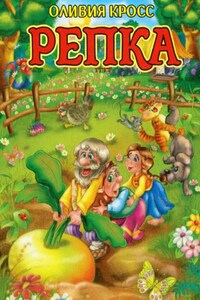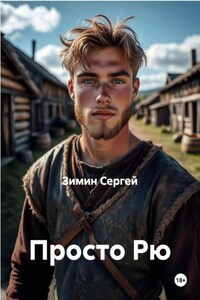Я помню то утро, когда меня слепили, хотя у теста нет памяти в обычном смысле и у круга нет углов, за которые можно было бы зафиксировать время; но я помню запах, потому что запах – это тоже язык, и он сказал мне: ты родишься там, где будет тепло, и первое, что ты узнаешь о мире, будет не взгляд, не слово и даже не прикосновение, а дыхание печи, медленное и равномерное, как шаги ночного сторожа вокруг маленькой деревни. Старуха держала меня на ладонях, как держат что-то смешное и любимое, – чуточку стыдясь этой любви и всё же уже не в силах отказать себе в ней, а старик при этом шевелил губами, считая воображаемые монеты, которые они сэкономили на сегодняшнем обеде, и я услышал в его счёте улыбку, очень тихую, вроде той, что бывает у человека, который вдруг заметил, что в конце пути есть ещё один поворот, и он не ведёт в пропасть. Печь – как маленькое солнце – втягивала воздух и выдыхала жар, и мне казалось, что я плыву по неведомой реке, и у этой реки нет берегов, а есть лишь тёплые волны, и каждая волна шепчет: не бойся, ты – лёгкий, пока ты ещё не остыл, ты – податливый, пока ты ещё не стал своим собственным телом. Старуха гладкой ладонью делала меня круглым, и я понял, что круглость – это не форма, а обещание дороги, потому что круг не имеет начала и конца, а значит, где бы ты ни был, ты всегда рядом с отправной точкой и в то же время всегда далёк от неё, как звезда далека от своей первой искры.
Они посадили меня на подоконник – на границу света и тени, жизни и ожидания, – и я лежал, глядя в окно, а мир снаружи был похож на тетрадный лист в узкую линейку: поле, тропинка, изгородь, лес. Я ещё не умел смотреть, но уже умел видеть: в щербинках на деревяшке было записано, как тут живут ветра, как они приходят с холмов и уносят с собой запахи; в пылинках, медленно танцующих перед стеклом, было записано, что мир не спит даже в самую сонную минуту; в морщинке у глаза старика было записано, что человек всегда надеется, даже когда говорит, что не надеется.
Старуха разговаривала со мной, как разговаривают с котёнком или с луком на грядке: она называла меня ласково и просила не убегать, хотя ещё не решила, съест меня или оставит до вечера, и я услышал в её голосе не запрет, а просьбу о дружбе; она говорила: у нас мало хлеба, но в сердце должно быть много места, иначе мы задохнёмся, и я кивнул изнутри своего ещё мягкого теста, как кивают земля и небо, когда соглашаются с дождём. Я высох, я стал упругим, я почувствовал пределы – как чувствует своё крыло птица, только что вышедшая из яйца, и понял, что пределы не заключают, а дают направление, потому что если бы я не был круглым, я бы не покатился, и если бы я не имел корочки, мир бы меня разобрал на крошки и не узнал бы меня как «меня».