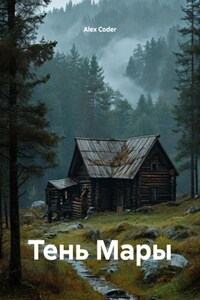Поздняя осень впилась в Киев сырыми, костлявыми пальцами. Она выпила все краски лета, оставив после себя лишь выцветшую серость неба и бурую гниль опавшей листвы. Дни, съежившиеся и короткие, с неохотой уступали место длинным, бездонным ночам, в чернильной тишине которых любой звук – треск ветки, далекий крик ночной птицы, скрип половицы – казался зловещим предзнаменованием.
С высоты Городища, княжьего холма, увенчанного частоколом и сторожевыми вышками, город расстилался у ног, как пестрая, потрепанная шкура. Там, внизу, бурлил Подол – Нижний город, лабиринт кривых, немощеных улочек, зажатых между высокими срубами, мастерскими и приземистыми домами простого люда. Из сотен курных изб и ремесленных дворов к низкому небу тянулись тонкие, ленивые струйки дыма. Воздух был густым и многослойным. Он пах терпко и кисло – прелой листвой, сырыми дровами, острым духом кузницы, кислой вонью от кожевенных дворов на отшибе, и над всем этим витал сытный, основательный аромат копченого мяса и печеного хлеба. Этот смешанный запах был дыханием Киева – города живого, беспокойного, вечно торгующего, строящегося и перемалывающего в своем огромном жернове судьбы и племена.
Радомир, молодой дружинник из младшей гридницы князя Владимира, стоял на дозорной вышке у западных, Житомирских, ворот. Пронизывающий ветер, прилетевший с бескрайних полей, хлестал по щекам, заставляя слезиться глаза и ероша густую русую бороду, подстриженную аккуратно, «под горшок», как было заведено у княжьих воинов. Его рука в шерстяной рукавице инстинктивно лежала на теплой рукояти меча. Внизу, под вышкой, не прекращалась суета: натужно скрипели немазаные колеса телег, запряженных круторогими волами; пронзительно кричали торговцы, зазывая покупателей к своим лоткам («Меды хмельные! Пироги горячие! Рыба вяленая!»); заходился в брехливом хоре бродячий пес, которого пнул ногой подвыпивший горожанин. С днепровской пристани долетали обрывки гортанной речи – греческие купцы торговались с варяжскими наемниками, а где-то рядом слышалась плавная, напевная речь хазар. Киев гудел, говорил, молился и проклинал на десятке языков.
Взгляд Радомира машинально скользнул по знакомым очертаниям города. Вот, на самой вершине холма, виднелись обугленные остатки капища Перуна. Идола давно сбросили в Днепр, но место все еще хранило память о старой силе. Радомир не раз видел, как старики, проходя мимо, торопливо крестились – непонятно, отгоняя ли беса, как учил греческий священник, или извиняясь перед старым, свергнутым богом. Эта двойственность была повсюду. Всего в сотне саженей от старого святилища раздавался настырный, вызывающий стук топоров – плотники, нанятые князем, возводили стены новой деревянной церкви, и этот звук казался отчаянной попыткой заглушить вековой шепот дремучих лесов.