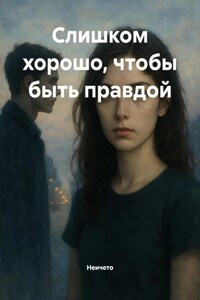Ночь – траурные одежды, в которые облачается Время, оплакивая смерть нового дня, вуаль, скрывающая уродство города и моего треклятого жилища, обращённая затем в полотно, что служит фоном для бледных, до боли знакомых фигур тех, чьи тела давно уж растворились в холодных объятьях земли.
То был апрель. Самое его начало, если точнее. Пора истинно тоскливая, от видов которой сердце сочится горькой желчью светлой печали. И почва души1 человеческой, пропитанная той желчью, становится усеянной цветами меланхолии, что первыми пробуждаются после долгой зимы.
Мороз давно отступил, но в местах, не целованных солнцем, снег ещё лежал. Грязный и мерзкий, чёрный, убогий, он – лишнее напоминание о том, что у жизни только один финал: трагичный, бесславный, жестокий.
Благо над головой по-прежнему есть небо – отрада для глаз2 – серо-голубое, чистое, безмятежное – точно туманное зеркало – в нём, смешавшись воедино, отразились чаяния и надежды всех романтиков и мечтательных страдальцев, когда-либо живших на Земле. (Может быть именно там, среди звёзд и облаков, им самое место. И романтикам, и их чаяниям и надеждам.) Обнажённые деревья – прекрасные, гордые девы, что назойливым ухаживаниям пылких юнцов предпочли участь не самую завидную. Хотя как знать, как знать… В столь отчаянном решении есть, я думаю, великая мудрость и верность себе, своим решениям. Давным-давно и мне, я думаю, стоило превратиться в дерево. Я бы превратился, если б мог, и многое бы отдал, чтобы встать с ними в один ряд, но увы и ах, как говорится…
Вот стоят эти девы, машут ветвями, словно продолжая качать головой в непреклонном отказе; кажется, будто отвернёшься на мгновение – и они тут же примут свой прежний облик да пустятся в пляс. О, как было бы чудесно! «Мир небезнадёжен», – сказал бы я тогда и со спокойной душой отошёл в мир иной. Но нет, конечно, нет. То глупость. Блажь старикашки, которому во всякой обыденности видится волшебство поэзии. Дерево есть дерево. Не более того. Однако как же грациозны сии прелестные создания! И только ветру дозволено ласкать их, только дождю дозволено горевать о них. Мы же, идущие ногами, видящие глазами, говорящие ртами, всего-навсего можем петь им нежные, грустные оды.