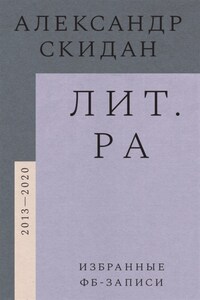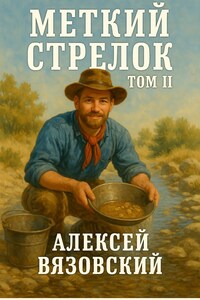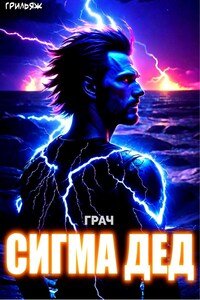Игорь Булатовский. И вся недолга
Возможно, нас не должно здесь быть. Возможно, нас здесь и нет. Возможно, мы есть, но только по старой привычке считать Литейную часть местом нашей поэтической социализации, местом сообщности живых и мертвых поэтов, и не важно, мертвые мы или живые, есть мы или нас нет.
Много лет назад после моего чтения здесь, в Музее Ахматовой, в Сарае, Саша (странно, что он там вообще был) сказал, что язык моих тогдашних стихов уже не язык, а какая-то ветошка языка. «Но это же лирика, лирика», – почему-то ответил я. Еще через много лет в приложении к Сашиному избранному «Membra disjecta» я с удовольствием обнаружил одно двустишие, удивительную медитативную пару: «Ветошка языка / и вся недолга». С тех пор такого рода Сашины тексты, напоминающие экспромты, короткие и краткие (это разные характеристики), я про себя называю «ветошками». Из них в основном составлена «Контаминация», их было много и после «Контаминации».
В них дана ветхость поэтического языка (речи, письма), и в смысле его использованности, и в смысле его уязвимости, изъязвленности. Как бы мы ни укрепляли (читай обновляли) поэтический язык (синтаксически, аналитически, философски, политически, ассоциативно, документально и т. д.) он, этот язык, прежде всего «ветх» в своем предельном состоянии – перед лицом катастрофы, перед лицом того «поздно», которое двадцать четыре раза повторяется в Сашином тексте, написанном 1 марта 2022 года.
После начала войны многие, работающие поэтический язык, стали говорить и до сих пор говорят о том, что слова умерли, убиты и т. д. Но умерли не слова, разумеется, умер синтаксис (там, где он был жив, конечно, и вдвойне умер там, где был мертв), синтаксис умер как залог удовольствия. Все слова будто бы стали падать строго вниз без отклонения, без оплодотворяющего, творящего клинамена. Каждое слово стало тавтологией самого себя. Отсюда, возможно, особый вес тавтологии (псевдотавтологии, омонимии, паронимии) в Сашиных стихах после 24 февраля.
В первом же тексте «Контаминации» есть двойная, как мне кажется, отсылка: «и гёте гёте в рюкзачке». Это отсылка, с одной стороны, к «Поручению» Кузмина, а с другой, возможно, – к Багрицкому («А в походной сумке / Спички и табак, / Тихонов, Сельвинский, Пастернак»). Но меня интересует первая. Саша цитирует «Поручение» уже в «Схолиях» («В красном смещении»): «и Гёте Гёте конечно!» Если отвлечься от биографического контекста, «Поручение» Кузмина 1922 года (сто лет) – о связи тавтологии и ужаса. Там, если вы помните, две Тамары – Тамара Карсавина и Тамара Персиц (издательница Кузмина), обе уже живут в Германии, и Кузмин напутствует странника навестить их. И если первая Тамара – старая знакомая, которой можно запросто рассказать о безбытной послереволюционной, послевоенной жизни, то вторая – бездна, на нее нельзя смотреть («Но если ты поедешь дальше / и встретишь другую Тамару – / вздрогни, вздрогни, странник, / и закрой лицо свое руками, / чтобы тебе не умереть на месте»). Такова функция тавтологии в последних Сашиных стихах, стихах последнего времени, последних времен.