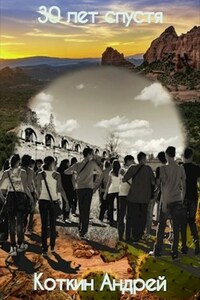Жила в давние времена сирота по имени Керстин. Отец её рыбачил, ловил треску, да тунца, да серебристую салаку, мать с ним наравне и сети тянула и парус ставила, вот только в один недобрый день ушли они вдвоём в море и не вернулись. День их искали, два искали, на третий собрались в опустевшем домике соседи друзей оплакать, а Толстый Хелге, хозяин самого богатого в округе хутора уже тут как тут – рукой о стол оперся и говорит громко, чтобы все слышали:
– Рыбак Ларс Свенсон остался мне должен семь таллеров за лодку, которой я его ссудил, за зерно, что он у меня до урожая брал, за корову, которую пас на моём лугу, – поэтому я теперь хозяин этого дома на мои деньги купленного, и этой земли на моих лошадках распаханной, и коровы в хлеву, и поросят в закуте, и самой последней курицы на насесте.
Все знали, что землю эту от диких камней расчистили молодые Ларс и Илве, все знали, что почти весь долг они выплатили, да никто Хелге перечить не посмел.
– А маленькую Керстин я не обижу, не зверь же я – будет жить в моём доме как родная дочь вместе с моим сыном Хенриком, что мы будем есть, то и она. Коли у нас будут башмаки, то и она босиком ходить не будет. – Что, Хенрик, – обратился он к насупленному мальчишке, прижавшемуся к его колену, – будешь заботиться о Керстин как о сестре младшей? Опекать её? Защищать?
– Буду, – – буркнул мальчишка и о обвёл всех сумрачным взглядом.
– Ну, а коли так, всё и решено – забираю я Керстин под свою крышу.
И опять никто слова против не сказал. И увёл Толстый Хелге девочку от родных стен.
С тех пор не слышала Керстин ни одного слова ласкового – только брань да попрёки. И воду она из колодца таскала и помойные вёдра выносила, свиней пасла, полы скребла, лён трепала, хлеб в печь сажала. А за всё про всё давали ей каши холодной со дна чугуна да сухую корку хлебную, что за столом не доели, и то, если свиньи сыты были. Одежду она за последней батрачкой донашивала, стирала её, латала её, да целее с того старое тряпьё не становилось, обувкой ей служили драные башмаки с чужой ноги. Первой в доме Керстин вставала, последней ложилось – не в кровать уютную, не на простыню чистую, ложилась она спать под лестницей, что в чулан вела, на старом половичке – иного места ей не нашлось.
Другая плакала бы целыми днями, а Керстин улыбалась да песенки напевала, которым её мать когда-то научила. Кто улыбку её увидит, кто песенки услышит, сам в ответ улыбкой расцветёт. Лишь Толстый Хелге да сын его Хенрик от злости шипели – когда же ты заткнёшься, оборванка, покоя от тебя нет!