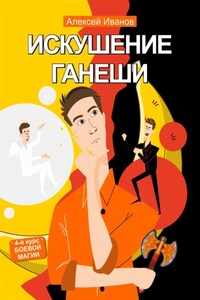Эта драма сделала его очень печальным. Печальным и безразличным к своей судьбе.
Душистый червь сказочного воздушно-трансового настроения полз из минуты в минуту, из часа в час… Даже не столько полз, сколько слоился чешуйками в тесном пространстве времени, мучительно медленно отслаивая от него день за днем, час за часом, минута за минутой. Что, отслоившись, долго-долго падали на дно ущелья жизни и разбивались там на мелкие незначительные события. Да какие, к черту, события? Так, связующие опорно-двигательные моменты его невзрачного бытия, кое он с удовольствием снаоборотил бы на взрачное небытие. Вместо тряссучьей трескотни об одном и том же: порочного круга быта, в центре которого он сидел и ширил его слезами своей больной души. К этому даже привыкаешь. И оно теряет свою навязчивость и становится привычным концом этой нелепости, которую попугайно именуют: «жизнь».
Зачем её дали? Кто просил? В те ли руки она попала?
Ведь кем Ганеша был на самом деле? Так сказать, изначально.
«Я с самого детства чужое
Тело таскал непривычно большое.
В дождь листва мне шепчет свои сны.
Я больной ребенок тишины.»
Жить было ни к чему, а умирать – тупо. Но это уже не было поводом к тому, чтобы себя ненавидеть. Ему уже было абсолютно всё равно.
Потому что его транс, в который Ганеша впал как в некую эмоциональную кому, был настолько, сам по себе, прекрасен, что Сиринга выступала здесь лишь поводом к тому, чтобы он смог почувствовать всю прелесть и глубину своей собственной души.
«Я входил в оранжерею, как во храм.
В ней посмел заговорить бы только хам.
Заходя, здоровался я с листом,
И росинка вдруг прощалась с лепестком.
К нам пришла сегодня гостья. Звонкий смех!
Восемнадцать лет девчонке – первый снег.
Живо трогает, смеётся, лепестки.
И ожили странным светом цветники.
Чуткий голос. И срезает, как цветы,
Все святыни в саде зимнем Красоты.
Лишь когда ушла, я понял: стёрт мой храм.
Нет дорог в оранжерею, к тем цветам.»
В глубине души Ганеши, на задворках этой оранжереи сидел Аполлон и, в отличии от него, прекрасно осознавал, что, в сущности, Сиринга ни чем не отличается от других.
«Ведь поступки других актуальны для тебя только в той мере, в какой они захватывают корвет твоего воображения и берут командование твоей экспедицией на себя, задавая тебе свой курс поведения и проецируя на горизонте «остров сокровищ», – размышлял Аполлон. – Поэтому, пока ты не станешь обращать своё внимание на себя, на свои действия, вместо того чтобы увлекаться течением своих мыслей и чувств, так как только целенаправленное действие и может обладать смыслом, ты отдан произволом своего внимания на растерзание тысячам подражаний. Особенно – тем идеальным образам, которыми заполонило твоё подсознание искусство. И буквально проштамповало твоё восприятие. Заставляя тебя смотреть на мир через их призму. Рисуя Сирингу, как одну из главных героинь твоего романа. Не иначе как которым ты именуешь свой зимний поход в чащу событий за валежником ситуаций. И которая навсегда заблудилась для тебя в этом волшебном пока ещё лесу. Где все прочие – это разношёрстные, но от этого не менее дикие звери, непонятно как научившиеся говорить с тобой на одном, ставшим общим для вас через совместные действия, языке. Действия, по самой твоей природе изначально тебе чуждые. Непонятно как и зачем Сиринга тогда ожила, и ты внезапно увидел перед собой нимфу, то есть – ровню. Тогда как она всегда стремилась только к одному – стать таким же животным, как и все остальные. И с каждым днём буквально дичала, дринкчая, у тебя на глазах. Пока окончательно не одичала, и её дикость ни вырвала её у тебя из рук!»