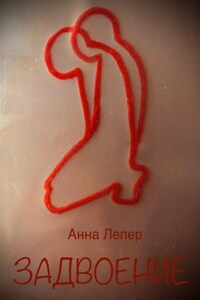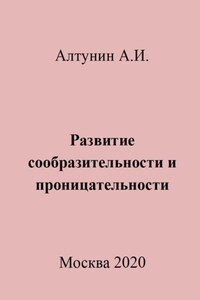Осень в Москве выдалась замечательная. Такую не по-октябрьски солнечную и теплую погоду даже трудно было назвать осенней. Это было скорее затянувшееся бабье лето, когда ночью уже прохладно, а днем солнце приятно обливает обращенные к нему участки теплым сливочным сиропом своих уходящих лучей. И в этом дрожащем воздухе, чистом, как ключевая вода, думать было удобнее и проще. Андрей Макарович рассеянно сидел на скамейке случайной автобусной остановки и пытался собраться с мыслями.
Он был женат в третий раз. Встретилась она ему в родном Новосибирске уже во вполне зрелом возрасте, вскоре после гибели ее единственного сына, и сразу поразила своим жизнелюбием. Потеряв основной смысл жизни, она не утратила остальные, и продолжала упруго шагать вперед, а кое-где даже вверх – ее труды высоко ценились в научном мире. В третьем лице он называл ее своей Еленой Прекрасной. Две предыдущие жены Андрея Макаровича были не менее прекрасны, но только сойдясь с Еленой, он осознал, что в них ему не хватало только одного – легкости.
Совместных детей Андрей и Елена, конечно, уже в силу возраста не нажили, но им было вполне достаточно двоих его прекрасных сыновей от предыдущих жен. С обеими бывшими семьями у него сохранились чуть ироничные, но очень теплые отношения, которые Елена старательно холила и подкармливала своими фирменными пирогами и пельменями. Память о родном сыне она никогда не выпускала за пределы своего внутреннего мира, где Слава по-прежнему жил своей вечно молодой жизнью. Уже спустя десятилетия после его смерти в ее сознание иногда как будто вдруг вползала тревожная мысль, что он вовсе не умер, а просто почему-то живет не с ней: в толпе метро или на улице она могла принять какого-нибудь нежного юношу с торчащим кадыком на тонкой подростковой шее за своего сына, но потом спохватывалась, что, даже если бы он жил все это время своей параллельной жизнью, ему теперь было бы уже за тридцать.
Такие всегда неожиданные вторжения потустороннего в реальное немного сбивали ее с привычного ритма, и чтобы как-то успокоиться и в очередной раз напомнить себе о границах миров, она шла в церковь. Не к началу службы, потому что никогда не была религиозной, а просто когда выдавалось время. Заходила под гулкие каменные своды – чаще в такое время, когда там было безлюдно и от этого спокойно, – покупала свечку и долго стояла перед каноном, уставившись неподвижным и чуть расфокусированным взглядом на потрескивающие огоньки. Никаких молитв она не произносила, но из церкви выходила с новой готовностью жить дальше. С мужем свое непреходящее горе она не обсуждала, и даже не потому что не хотела его расстраивать, а потому что боялась живым разговором оскорбить память умершего.