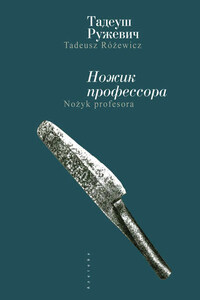Не касаешься – и не ведаешь, что там за,
как сознание отключено, голодны глаза,
как ошибочны жесты, спонтанны, как не стереть
путь ладоней по телу, ладоней по телу речь.
Не касаешься – не ошибаешься. Или нет?
Кожа бледная под губами – горячий снег.
Тело бледное – саван, укрывший тебя собой.
Жизнь – любовь.
Смерть – любовь.
Между ними любой – любовь.
Не касаешься – так никогда и не узнаёшь:
прикоснуться ли ложь или не прикасаться – ложь.
Наши страхи – туманное молоко,
руку вытянешь – пальцев не рассмотреть.
Говори со мной так, словно страх не ком, подкативший к горлу и сжавший речь.
Наши страхи – сплетение паутин: нити, нити, туманная пряжа слов.
Солнце светит, но солнце в его сети, и до дна не всегда достаёт тепло.
Наши страхи – туман, страхи вяжут рот, как хурма, мякоть слов уминают в ком.
Говори со мной всё равно – речь придёт.
И на ощупь, на ощупь тянись рукой.
Такое лето, мне за тридцать, жаре за тридцать,
клади ладонь на плечо – раздеваться и целоваться.
Читай меня по губам, прикасайся к моим ключицам, включи на плеере трек, под который танцуют пальцы
по рёбрам ниже, к бедру, чтобы сжаться и обессилеть; дыши, дыши мной, пожалуйста, чтобы потом и после
такое лето внутри горело неугасимо,
что раскалялся бы
даже
поздноосенний
воздух.
Суховей июльский оборачивает собой,
требовательный, жаркий, словно дыхание встречное —
берет, как в ладони крепкие, как забывшись берут любовь:
ни выдохнуть, ни вдохнуть, ни напряженные плечи
в бессилии не разжать; губы едва оближешь,
снова их, пересохшие, исступлённо влечёт к горячему.
Ближе, прошу тебя,
ближе,
как можно ближе.
К нашему. Настоящему.
Я ничего не знаю наперёд,
и мне впервые с этим хорошо.
Пускай собьётся компас и соврёт, пускай никто не знает, как пришёл