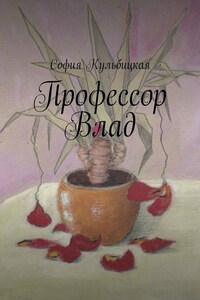Великое наслаждение сотрясало тощее тело сира Пиорока. Он вопил от восторга и одновременно от отчаяния, в сладостной судороге вцепившись пальцами в резную дубовую спинку своего ложа.
Даже сквозь розовое марево неслыханного блаженства холодный разум его не переставал сознавать, что для отчаяния, собственно, причин куда больше. Восторг был лишь в этом кратком и вот-вот грозящем прерваться мгновении. Дальше начиналось страшное.
Он знал, что не выдержит соблазна и потеряет всё, что мог бы иметь, отдав его за этот краткий миг горчайшего наслаждения. Он знал, что вслед за этим потеряет и последнее, что имел – и это будет куда хуже. Знал он и то, что месть Небес, грозящая ему за этот выбор, будет ужасна. Наконец, он знал и то, что всё это будет зря. Он знал, что нелюбим и никогда любим не будет.
Но всё это, знал он, будет потом. А сейчас он пьёт райский напиток до дна, в последней конвульсии дикого экстаза едва не выламывая спинку многострадального своего ложа. Рассохшегося, скрипящего от старости ложа, на котором некогда он и сам был зачат.
Но позволим же Пиороку хоть на миг забыться – и перенесёмся вместе с ним в те светлые дни прошедшего, где ничто ещё не предвещало беды, где он был весел, лёгок и свободен.
Хочется сказать: «…и счастлив». Но это было бы неправдой. Счастлив Пиорок не был – хотя бы потому, что был постоянно голоден. Голод да вечная забота, как подлатать свой тощий кошель, в котором что ни день возникают всё новые дыры – вот что почти целиком заполняло мысли этого высокородного барона, чьи славные предки, увы, не умели толком вести хозяйство.
И всё же он не унывал. Кое-что предки ему всё же оставили: здоровое, сильное тело, смазливое лицо да хорошо подвешенный язык, чтобы нравиться дамам – а это уже немало. В двадцать лет это почти готовое состояние. В тридцать – это нечто, дающее надежду, даже если, кроме этого, у тебя ничего нет. В сорок этого уже, конечно, маловато, – а всё же лучше чем ничего, тем более когда на свете полным-полно пожилых дам, в чьих глазах ты – всё ещё смешной желторотый юнец.
Человек несведущий и грубый мог бы на этом месте задать вопрос: но какого же рожна Пиорок ждал до сорока (и даже дольше)? Что ж он вовремя не пустил в оборот столь ценный капитал, имя которому – юность?! Или он думал, что она будет длиться вечно?..