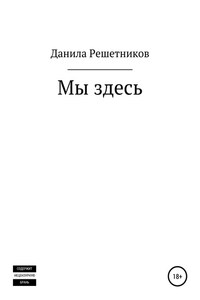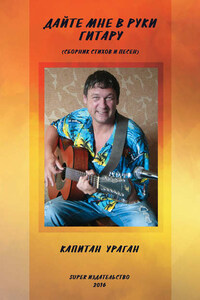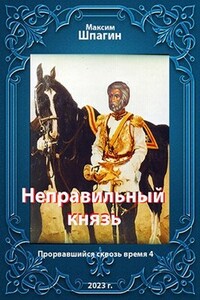Ее дыхание. Жаркое, неотвратимое, оно оставляло капельки влаги на душе, отгоняло прочь неспокойные мысли, оседая поверх каждого, поднятого морозом на дыбы, волоска, выраставшего из лица моего. Ладошки в перчатках кожаных, обхватившие руль мотоцикла, потными становились. В моем взгляде не было ничего. Я лишь ехал вперед, прищурившись, собирая ресницами хлопья белого снега. Глаза приходилось время от времени закрывать. Иногда я слышал, как автомобили сигналят мне. Иногда, как водители, остановившись по соседству на светофоре, балуют мои уши и всех вокруг, кто ехал с открытыми окнами, изобретательным красноречием. В эти мгновения я бросал на них взгляд пустой свой, холодный, обжигая безразличием, вынуждая свирепеть еще пуще прежнего. Голова Кати лежала на плече. Она безмолвно сопровождала меня. Поддерживала во всем своей тишиной. Такой единственной, в этом буйном, шумном мегаполисе которой уже не сыскать. Чуть повернувшись, я кончиком носа стащил шапку со лба ее и чмокнул обмороженными губами в смуглый островок кожи. Затем оторвал от руля одну руку и показал лысому водителю на черном внедорожнике средний палец. Улыбнулся нагло и дал деру на желтый свет. Проскочил. Сердце застучало так, что в этой суматохе громкость его ударов стала вполне различимой. Я зажмурился несколько раз, чувствуя, будто запрыгнул на быка сумасшедшего и пытаюсь на нем удержаться. Вокруг зеваки испанские. Повсюду песок, гравий, оглушительные крики усатых лавочников и барышень пышногрудых, темноволосых. Я смотрю на них взором запутанным. Растерянностью дышу…
– Саша! – послышался Катин голос.
Я замотал головой, пытаясь найти ее в толпе круглолицых дам. Ничего не выходит. Бык бьется, словно в конвульсиях, ударяя в пах, отчего я резко перемещаюсь на заснеженную дорогу.
– Да очнись, ты, блин! – кричит она, стараясь ухватиться за руль.
Я виляю из стороны в сторону. Все сигналят, гололед мешает мне найти равновесие. Я глотаю слюну, одну за другой, крепко сжимаю в кулак рога своего быка и каким-то чудом, сбросив немного скорость, снова еду в привычном режиме.
Мы остановились у обочины, встали и вышли на тротуар. Катя опустила шапку. Я сразу ощутил холод. Она наговорила мне кучу гадостей, которые выслушивать было столь же противно, как и новости о внеочередном введении карантина. Я кивал, виновато опустив голову. Шторм стих через пару минут. Я поднял взор, однако любимой, поддержка которой казалась такой неразлучной с моей обреченностью, и след простыл. Я стал кричать, стал звать ее, но в толпе, снующих туда-сюда по своим делам, равнодушных людишек, отыскать Катю мне было не суждено. Я бежал вперед, бежал влево, вправо, путался среди курток замерзших, шершавых, толкался, падал перед прохожими и бил кулаками сливочный плед асфальта, истерически жмурясь, раздавить себя изнутри безнадежно пытаясь. И вдруг тишина. Я открыл глаза и увидел пустую улицу. От удивления обернулся. Безлюдным был и парк придорожный, и автомагистраль, по которой машины нескончаемым потоком спешили, орали друг на друга, дрифтовали, забрасывая, ни о чем не подозревающих пешеходов, грязным и мокрым снегом. Я поднялся, отряхиваясь на ходу, бросая взор на проталины у голых деревьев, растущих вдоль тротуара. Удивление постепенно сменялось нарастающим чувством страха. Я шел и щипал себя, но все тщетно, все без толку. Небо больше не сорило теми клочками бумаги, что ложились на все подряд, теперь попросту размазней бледно-серой оставшись над единственной головой в этом мире. Ускоряя шаг, я изо всех сил пытался найти глазами хоть одну человеческую фигуру. Шел мимо витрин магазинов, мимо остановок автобусных, сворачивал за угол, во двор заходил, запрокидывал голову и кричал: