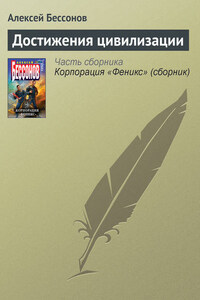– Сколько же отсюда вёрст до этой… как её?
– До Березянки-то? Верстов тридцать, поди… а то и с излишком.
Спрашивал высокий человек в бобровой шапке и длинной верблюжьей шубе, отвечал краснорожий, лысый мужик, низко подпоясанный по замазанному полушубку красным кушаком. Оба они стояли на крыльце постоялого двора, мужик, сняв шапку, вертел её в руках и, переступая с ноги на ногу, колыхал своим большим животом, ожидая, о чём ещё спросит его проезжий. А проезжий, медленно очищая от сосулек концы своих пышно убранных инеем усов, смотрел на снег, ослепительно блестевший на солнце, и задумчиво щурил большие, усталые глаза.
– Вёрст сорок, значит? – спросил он.
– А може, и сорок… В горницу пожалуете, али по деревне сделаете прогулочку?
Деревня состояла из двух десятков бугров снега, на ярком фоне его кое-где торчали закопчённые трубы печей, выглядывали тёмные углы крыш и стен, тускло смотрели стёкла кривых окон, а в одном окне разбитое стекло, заткнутое красной тряпицей, было похоже на громадный вытекший глаз. Бугры снега неподвижными белыми волнами лежали и на улице, лучи холодного солнца усеяли их миллионами остро сверкавших искр.
Проносился ветер и вдруг гасил их сияние, вздымая белые дымки, – но, потухшие на земле, они вспыхивали в воздухе и с шорохом исчезали куда-то. Было очень холодно, и изо рта проезжего дыхание вырывалось клубом белого пара прямо на лысину говорившего с ним мужика.
– Пойдём в горницу… А долго ждать?
– Самую малость… в полчаса время мы вас снарядим.
Радостно взвизгнул дверной блок, и красное лицо мужика озарилось счастливой улыбкой, когда он, распахнув дверь в сени, с тревогой и надеждой спросил:
– Самоварчик прикажете? Яички, молочко… колобашка пшенисная?
– Тащи, но, пожалуйста, брат, недолго возись…
– Живым манером… – И он скрылся с быстротой, совершенно непостижимой при его животе.
Проезжий сбросил с себя шубу, потом снял меховое пальто и остался в толстом сером костюме и в высоких, по колено, тёплых сапогах.
Лицо у него было полное, сытое, разрумяненное морозом, прядь длинных волос упала на высокий лоб в тонких морщинах, глаза, большие и умные, смотрели задумчиво… Он, зевая, сел за стол и осмотрелся. Маленькая, оклеенная газетной бумагой и листами какого-то журнала с картинками, комната представляла собой правильный четырёхугольный ящик. Давно немытый потолок был чёрен от копоти, а стены комнаты желты от бумаги, выцветшей и засиженной мухами. У стены стоял большой стол, выдвигавшийся до половины комнаты, по бокам его – лавки… Два окна освещали всё это. Пахло чем-то сложным и тяжёлым. Было тихо и убийственно скучно.