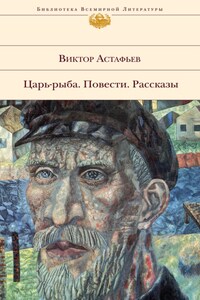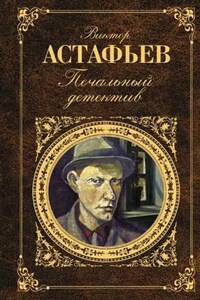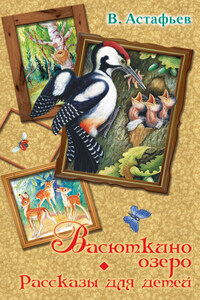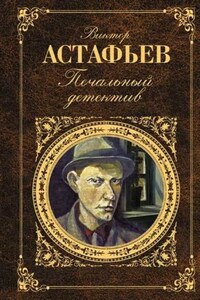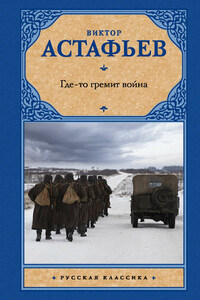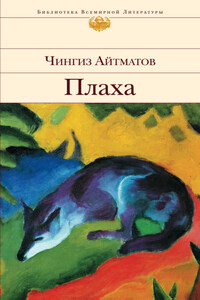И брела она по тихому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему. В сандалии ее сыпались семена трав, колючки цеплялись за пальто старомодного покроя, отделанного сереньким мехом на рукавах.
Оступаясь, соскальзывая, будто по наледи, она поднялась на железнодорожную линию, зачастила по шпалам, шаг ее был суетливый, сбивающийся.
Насколько хватало взгляда – степь, немая, предзимно взявшаяся рыжеватой шерсткой. Солончаки накрапом пятнали степную даль, добавляя немоты в ее безгласное пространство, да у самого неба тенью проступал хребет Урала, тоже немой, тоже недвижно усталый. Людей не было. Птиц не слышно. Скот отогнали к предгорьям. Поезда проходили редко.
Ничто не тревожило пустынной тишины.
В глазах ее стояли слезы, и оттого все плыло перед нею, качалось, как в море, и где начиналось небо, где кончалось море – она не различала. Хвостатыми водорослями шевелились рельсы. Волнами накатывали шпалы. Дышать ей становилось все труднее, будто поднималась она по бесконечной шаткой лестнице.
У километрового столба она вытерла глаза рукой. Полосатый столбик порябил-порябил и утвердился перед нею. Она опустилась с линии и на сигнальном кургане, сделанном пожарными или в древнюю пору кочевниками, отыскала могилу.
Может, была когда-то на пирамидке звездочка, но отопрела. Могилу затянуло травою проволочником и полынью. Татарник взнимался рядом с пирамидкой-столбиком, не решаясь подняться выше. Несмело цеплялся он заусенцами за изветренный столбик, ребристое тело его было измучено и остисто.
Она опустилась на колени перед могилой.
– Как долго я тебя искала!
Ветер шевелил полынь на могиле, вытеребливал пух из шишечек карлика-татарника. Сыпучие семена чернобыла и замершая сухая трава лежали в бурых щелях старчески потрескавшейся земли. Пепельным тленом отливала предзимная степь, угрюмо нависал над нею древний хребет, глубоко вдавившийся грудью в равнину, так глубоко, так грузно, что выдавилась из глубины земли горькая соль и бельма солончаков, отблескивая холодно, плоско, наполняли мертвенным льдистым светом и горизонт, и небо, спаявшееся с ним.
Но это там, дальше было все мертво, все остыло, а здесь шевелилась пугливая жизнь, скорбно шелестели немощные травы, похрустывал костлявый татарник, сыпалась сохлая земля, какая-то живность, полевка-мышка, что ли, суетилась в трещинах земли меж сохлых травок, отыскивая прокорм.