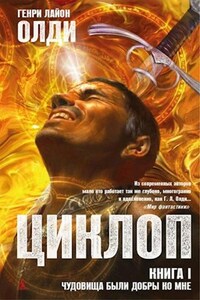Пусть расширится твоя голова!
Пусть будет стремительным твой полет!
«Нюргун Боотур
Стремительный»[1]
ПРОЛОГ
Когда земля треснула,
мальчик играл на дудке.
Пальцы шустро бегали
по отверстиям. Музыка рождалась сама, с легкостью, можно сказать,
небрежностью, которая говорила не столько о таланте, сколько о
большом опыте. Опыт не слишком вязался с возрастом мальчика, но
рядом не было никого, кто удивился бы такому парадоксу.
Земля треснула в
финале второй, подвижной части сонаты. Тальниковая дудка сыпала
энергичными акцентированными синкопами, двудольный ритм сменился
трехдольным, канон наращивал динамику. Вырезанная сложнее,
прихотливей, чем обычные пастушьи тихограйки, дудка обладала вполне
приличным диапазоном, и все равно чувствовалось, что маленькому
музыканту не хватает возможностей для воплощения замысла. Рискуя
точностью исполнения, он придал канону сильный, взволнованный
характер -- и взгорье, поросшее по краю молодым, сочно-зеленым
ельником, раскололось яичной скорлупой. Густая трава по краям
разлома мгновенно пожухла, свернулась черными колечками и
обратилась в пепел -- точь-в-точь волосы в жа̀ре костра. На нижних
ветвях елей порыжела хвоя. Те деревья, которым не повезло оказаться
слишком близко к трещине, накренились, в судорожном порыве цепляясь
корнями за землю. Поблекли, сморщились желтые венчики волчьей
сараны -- мириады хрупких солнышек увяли, теряя блеск. А разлом
ширился, бежал вперед, к луговине и через нее. В нем дышало,
дергалось, пульсировало. Так бьется сердце бычка, приносимого в
жертву, когда тяжелый и острый нож вспорет животному грудину. От
магмы, бурлящей в глубине, от лопающихся вонючих пузырей несло
пеклом, гибельной бездной Елю-Чёркёчёх. Стаи птиц взлетели к
облакам, подальше от кипящего ада, опираясь на потоки горячего
воздуха. Заполошный вороний грай накрыл окрестности до самой реки.
В чаще ревом откликнулась медведица, тревожась за потомство.