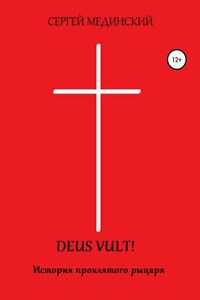в котором деньгипобеждают гнев,
а урок все же будет
преподан
Ночь приползла на улицы из влажной полутьмы весеннего леса. Ее
лохматые хлопья забили артерии города и почернели, разбухли,
напитавшись густым фабричным дымом. Вимсберг поперхнулся шершавым
комом, перестал на миг дышать – но ничтожное мгновение спустя
загудела, набираясь сил, просыпающаяся ночная толпа. Зарычали и
зазвенели с улиц транспортные сигналы, и далеким ревом прощался с
ними уходящий в неведомые дали пароплав.
Ночь забирала свое. Она шумела, содрогалась, жила! И где-то там,
в ее дрожащем от немыслимого скопления чувств нутре, едва слышно
проскрипела и лязгнула расшатанная дверь роскошной, но очень старой
повозки.
Ожившим шорохом скользнул на козлы долговязый кучер. Возницу с
головы до пят укрывал серый плащ, будто пошитый из той же унылой
мороси, что зарядила с самого утра и не думала прекращаться. Под
плащом, надежно укрытые глубоким капюшоном, плеснули мутной
желтизной выпуклые глаза с черными семечками зрачков.
Изнутри постучали, и рукав плаща нервно порхнул к хлысту.
Свистнуло, всхрапнула норовисто лошадь, застонали лениво
колеса.
– В порт, – крикнули в забранное сеточкой окно. Стремительно
темнело, и казалось, что карета тянет за собой ночь, укрывая город
черным покрывалом.
Тьма наполняла Вимсберг своей особенной жизнью. Она проникала в
души, застилала глаза, шептала приятно и лживо. Ее зов манил,
опьянял, выгонял на улицы и заставлял дышать полной грудью – до тех
пор, пока безнаказанность мрака не разметывал в клочья бесстрастный
утренний свет, оставляя лишь стыд, наготу и беспощадную правду.
Днем вода у берега была прозрачной и спокойной — насколько
вообще бывает спокойным океан в столичном порту. Но уже к вечеру
небо сморщилось и разревелось обиженной девчонкой, которую
соседский пацан дернул за пушистую облачную косу. Мириады холодных
тяжелых капель взбаламутили воду, и та стремительно помутнела.
В последние годы дожди над Архипелагом шли часто. Кое-где они
превращались в настоящее бедствие. Иногда цифры в сухих газетных
некрологах не сразу принимались всерьез — трудно было поверить, что
на юге и востоке от ливней колонисты, бывало, пропадали целыми
деревнями. Такие новости никак не способствовали всеобщему
оптимизму, а вовсе даже наоборот: тут и там брожение изъеденных
отчаянием умов порождало совсем не лояльные настроения. И на
суетливом Материке, и на чопорном Миррионе, и даже, по слухам, на
равнодушном Боргнафельде то тут, то там возникали темные личности
без явного прошлого, но всецело готовые к яркому будущему. Они с
жаром заявляли, будто все мировые несчастья происходят от всеобщего
непонимания истинной природы вещей, и так же горячо рвались эту
истинную природу объяснить. Слова падали в зараженную сомнением
почву и прорастали крепкими, как репейник, сорняками, собиравшими
на колючках гроздья готовых учиться одушевленных. Большинство таких
кружков не представляло опасности, но кое-где вреда от нх было не
меньше, чем от бесчинств обезумевшей природы.