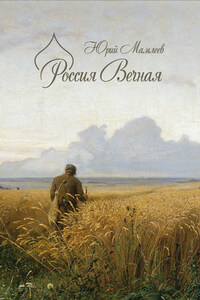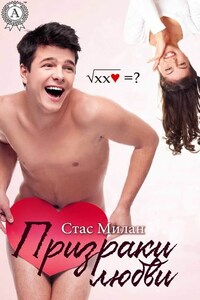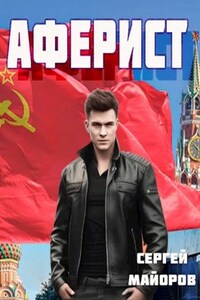«Бобок» Ф. М. Достоевского1
Вероятно, где-то в XIX веке, после всех побед «разума» над химерами, и в мировой литературе, и в русской в том числе, обнаружилось любопытное явление. Известно, что художественная литература обладает очень острой и быстрой реакцией на изменения в сознании людей, которых она описывает; эти изменения, как правило, уже только потом отмечаются историками и социологами. Так вот обнаружилось, что из человеческой жизни, во всяком случае из огромной ее сферы, постепенно стала уходить душа. Эта пропажа, пожалуй, была еще более знаменательна, чем, скажем, пропажа носа (вспомним гоголевский «Нос»). Речь идет о том, что интересы человека стали настолько ничтожны, настолько назойливо стали вращаться вокруг одних мелких материальных интересов, и даже псевдоматериальных, что за человеком не стало видно души; душа пропала; осталась одна оболочка. Образ и подобие Божие (вместе с другими химерами) развеялись; один за другим потянулись мертвые души; как грибы появились в мировой литературе изображения маленького человека; даже скука стала предметом литературы; «скучно на этом свете, господа», – повторяли многие; возникали стыдливые теории, что достаточно маленького человека приласкать, пригреть или вообще улучшить его положение, как вся проблема будет решена; забывали, что речь идет не о маленьком (социально) человеке, а о среднем человеке вообще, о новом типе сознания, да и герои Гоголя (а тем более герои-буржуа западной литературы) отнюдь не были последними (социально) людьми. Скорее, наоборот. Этот новый человек заполонил как жизнь, так и литературу. Даже Гегель обратил внимание на существование, особенно в маленьких провинциальных немецких городках, огромного количества людей такого типа, причем его почему-то поразили старухи, чье существование сводилось к патологически ничтожным интересам. Конечно, Гегель разрешал все это довольно просто: с его точки зрения, эти существования были лишь видимости, не имеющие, несмотря на то, что «видимость» носила человеческую форму, никакого отношения к реальности, то есть к становлению абсолютного Духа.
Более неприятна оценка такой пропажи души была для христиан, поскольку предполагалось наличие таковой у каждого человека, тем более христианина. А ведь эти существа не только пили, ели, копили деньги, зевали, работали, но и ходили в церковь, приобщаясь к Таинствам. Гоголя такие видения просто пугали, и, может быть, поэтому он считал художественное зрение такого рода преступлением; они, вероятно, встревожили его тем, что как бы внутри самого христианского мира вырастает жизнь иная; жизнь монстров, жизнь, далекая не только от всякого намека на религиозный образ, но просто быстро теряющая черты всякого человекоподобия (в обычном смысле этого слова). Тем более, что это нечеловекоподобие могло оформиться в интеллектуальные одежды, заговорить языком теорий, утопий, планов…