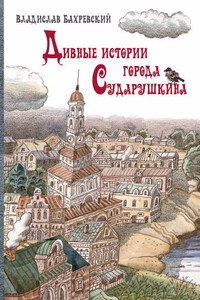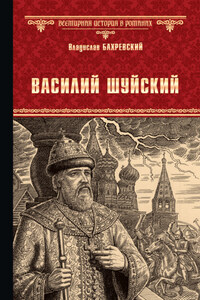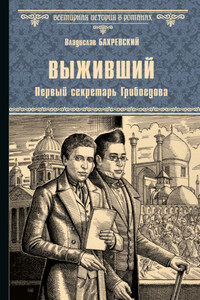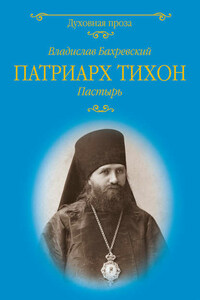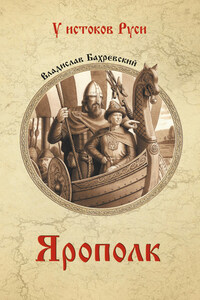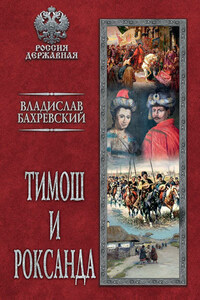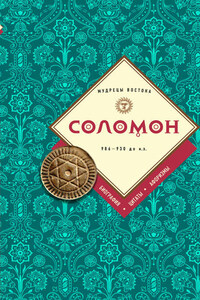«Темнозрачному, адских пропастей начальнику и всем служителям его, демонам, чертям, всем рогатым и хвостатым, премерзостным харям…» Перо скрипело, да так, что лучше бы кожу драли с живого мяса.
Казак намотал на палец оселедец[1], вперился в темный угол и углядел кошачьими своими глазами на земляном полу дувшуюся жабу. Плюнул в сердцах под ноги, отпустил оселедец, выжал из пореза на руке кровь на перо и, прикусывая от старания нижнюю губу, дописал грамоту до конца.
«…Вручаю душу и тело мое, ежели по моему хотению чинити мне споможение будут. Кровью своей подписался казак Иван Пшунка».
Помахал грамотой у себя над ухом, чтоб просохла, а заодно покосил глазом, ожидая явления сатанинского воинства.
Хата была брошенная. Когда-то жила в ней, дожидаясь счастья, дивчина Любомила. Красоты она была чудесной, от здешних парубков отмахивалась, как от мух, – и дождалась проезжего пьяного епископа. Все в этой хате и случилось. Любомила надругательство перенесла и умчалась с его преподобием на вороных, а вот отец-казак не перенес. Выследил дочку в епископском саду да и застрелил. Мать – камень на шею – и в реку. Казака рукастые слуги епископа схватили. До смерти не забили, но и ни одной живинки в теле не оставили. Кинули на проезжую дорогу. Но то ли уполз казак в укромную ямку да и помер тишком, то ли, собрав силенки, ушел в какие-то дали – никому про то неведомо, а ведомо одно – сгинул человек, вся семья сгинула. Осталась хата сиротой – темной силе на расплод.
– Ну, где вы тут? – страшным шепотом прорычал Пшунка. – Али света боитесь?
Дунул на лучину – и опять никого: пол не треснул, крышу не унесло. Выбил Иван Пшунка кирпич в печи, положил грамоту, кирпич на место поставил.
– Ладно, Любомила! Если ты и впрямь среди ихнего брюхорылого братства – помогай. За Степаниду мою пойду панов резать и за тебя, бедненькую, дуреху.
Подождал, не окликнут ли. Нет так нет! Махнул рукой и вылез через выбитое окошко на свет божий.
Тоненький серп новорожденного месяца сиял на нежных украинских небесах. Пшунка вытянул из ножен саблю, и сабля показалась ему родным братом месяца. Коснулся Иван губами клинка – холодом обожгло губы, мурашки по спине хлынули, словно кто ведро ключевой воды шваркнул на спину.
Из вишневой рощи, тревожно-белой от цвета, не померкшей, не утонувшей во тьме ночи, вдруг запели дивчата: