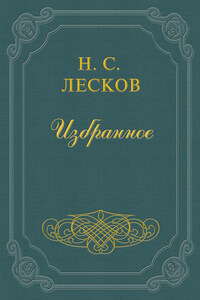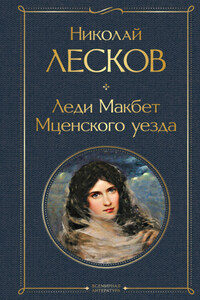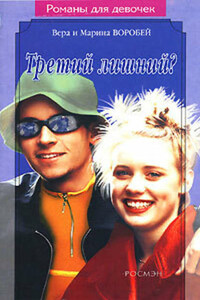В мартовской книжке «Киевской старины» помещено следующее известие:
«Шевченко, перед своим арестом в 1846 году, состоял в качестве рисовальщика при киевской временной комиссии для разбора древних актов, получая в год 150 руб. жалованья. После его ареста состоялось такое постановление комиссии:
«1847 г., марта 1-го дня. Временная комиссия для разбора древних актов, имея в виду, что сотрудник комиссии Шевченко без всякого согласия комиссии отлучился из Киева и по комиссии не занимается, – определили: исключить его из числа сотрудников комиссии с прекращением производившегося ему жалованья по 12 руб. 50 коп. в месяц».
Определение это подписали: «председатель К. Писарев, члены: В. Чеховский, М. Ставровский и А. Селин, Скрепил делопроизводитель Н. Иванишев».
Более к этому известию «Киевская старина» ничего не прибавляет, а между тем небезынтересно бы, кажется, узнать: кому именно пришло в голову сочинить такое определение, приравнявшее политический арест Шевченко неявке на службу по неизвестной причине, и чем это вызвалось?
Мне кажется, как будто я могу в этом кое-что пояснить.
История, по которой были арестованы в Киеве несколько лиц, и в числе их покойный Тарас Григорьевич Шевченко, была у всех на устах в 1849 году, когда я мальчиком приехал из Орла в Киев и поселился у дяди моего, профессора Алферьева. В доме дяди, поныне здравствующего, я встречался почти со всеми молодыми профессорами тогдашнего университетского кружка и, несмотря на мою едва начинавшуюся юность, пользовался от некоторых из них благорасположением и даже доверием. В числе их были даровитый молодой ученый Пилянкевич, Якубовский и Иван Мартынович Вигура, которого в Киеве называли «Хвигура». Теперь ни одного из них уже нет на свете, но тогда они были еще молоды и не разделяли довольно общего безусловного поклонения бибиковскому «циническому деспотизму». Ни один из них не был сепаратистом, ни агитатором, но молодому чувству их претило то, что в характере Дмитрия Гавриловича было циничного и глумливого, а он это любил, и в киевском обществе это очень многим нравилось. Бибиковские насмешки и издевательства над людьми, обуздание которых не представляло никакого затруднения для твердой власти, передавались из уст в уста, и редко кто чувствовал, что это вовсе не нужно и не возвеличивает характера государственного человека, облеченного такими обширными полномочиями, какими пользовался Бибиков. Напротив, находились люди, которые из всех сил старались подражать Бибикову и вторить сколько достанет остроумия. Это разводило много своего рода острословов или бонмотистов, между коими пользовались известностию по духовенству и по купечеству Виктор Ипатьевич Аскоченский, а в университетском кружке профессор Николай Дмитриевич Иванишев. Остроты Аскоченского, как вся его неуклюжая, семинарская природа, были грубы и «неистовы», – все они отличались резкостию и дерзостию, за которую этот киевский Ювенал расплачивался несчастиями всей своей жизни, полной трагикомических скачков от наглости к пресмыкательству. Но профессор Иванишев держал себя приличнее, острил помягче и потоньше, и притом он умел буффонничать. А как к буффонству имел склонность и сам Бибиков, то иванишевские выходки смешили и тешили этого государственного человека. Выходки самого Бибикова в буффонском роде бывали таковы, что многие из них даже нельзя изложить в печати: таков, например, случай с графиней М-й, имевшей привычку вмешивать в разговор польские слова. Иванишевские остроты бывали также не очень высокой пробы. Бибиков, по доносу исправника П – ионко, был недоволен на одного польского графа, который казался исправнику подозрительным, потому что любил толковать о политике. Бибиков захотел взять графа «на глаза» в Киев, но для ареста его никаких вин против графа не оказывалось. Тогда его пригласили в Киев, дабы «доставить ему удовольствие читать все газеты, какие получались в доме генерал-губернатора». Граф жил в Киеве не под арестом, а только «читал газеты». Положение его было пресмешное, и это всех тешило.