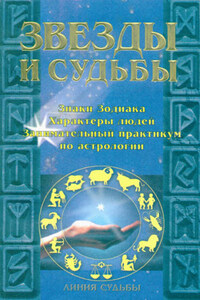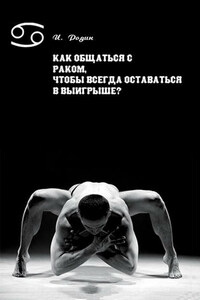Аум!
Вначале было слово.
За этим словом – еще одно слово.
Потом еще и еще. Еще и еще.
И когда от слов стало некуда деваться, появился человек. Его сделали для того, чтобы было кому слушать.
Но человек слушать не стал, а как раз наоборот – сам принялся без умолку болтать.
Тогда бог обиделся и смешал все языки.
А затем появился я.
Выбравшись из материнского чрева, оглянулся вокруг и сказал:
– Не лепо ли ны бяшет, братие?
Но «братие» хмуро молчали, ибо ничего не поняли из сказанного мной.
И стал я расти, свято веря в мечту, что однажды снизойдет на меня благодать и поймут меня все «языци», что услышит мое слово и тунгус, «ноне дикой», и «сын степей» калмык. Но время шло, а оно все не свершалось. Я матерел, становился эстетом, плавно, будто кусок мыла, входил в среду литературоведов и искусствоведов, этих авгуров и шаманов мира переплетов, этих ос, «сосущих ось земную», и сам начинал сосать, вернее, посасывать – так, чтобы на жизнь хватало и еще немного оставалось.
И я изучал Сартра и Камю с их экзистенциальной скорбью о мире, Пруста и Джойса с их тщетными поисками утраченного времени и не менее тщетными попытками досконально отследить путь хитроумного Улисса, многотомного Золя и еще более могучего Бальзака, ловил вместе с хэмовским стариком акулу у берегов Кубы и вникал в извивы больного воображения набоковских извращенцев – одним словом, преодолевал культуру и готовился к тому, чтобы однажды брякнуть по вещим струнам могучими перстами и взреветь всесокрущающим басом: «Гой, вы еси добры молодцы!» или на худой конец «Ревела буря, гром гремел!». А может, что-то еще, но обязательно столь же значительное и серьезное.
И вот – пора! Чувствую в себе силы необъятные, мысли нежданные! А что? Ведь писали же Достоевский или там граф Толстой! Даже какой-нибудь Писемский или Сергеев-Ценский бумагу марали! И в каком количестве! А я чем хуже? И мне пора! Труба зовет!
А стоит ли? Кто станет в наше время читать какую-то глупую книгу того же Сергеева-Ценского или Гарина-Михайловского в восемьсот полновесных страниц? Увольте. Тут дай бог газету в транспорте пролистать да телевизор на ночь послушать. «Беда, ой, беда, – шамкает беззубо гуманист-шестидесятник, воспитанный на могучих глыбах „Архипелага Гулага“, образных экзерсисах академика Лихачева и аллегорических намеках самиздата, – пропала русская культура! Пришел из-за черных гор проклятый буржуин и всю ее с кашей слопал…» «Заткнись, старый хрен! – отвечаю я ему. – Жива русская культура! Не сгинул еще Третий Рим! А вместо того, чтобы печалиться, возрадовался бы лучше, что времена изменились. Иначе бы уж я размахнулся Диккенсом томов на тридцать, растекся бы мыслью по древу, как Толстой, шмыгнул бы Достоевским по земли, взмыл бы Тургеневым под облакы…»