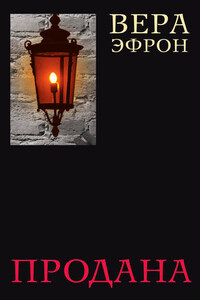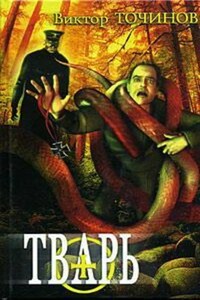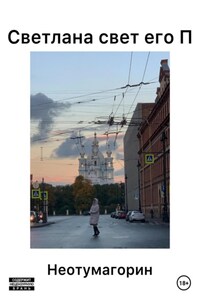Комната мала и тесна. Стены выкрашены в бело-меловой цвет. Простенькая гравюра в алюминиевой рамке, изображающая подсолнухи, висит над кроватью. Я убираю кровать каждый день и накрываю ее белым покрывалом ручной вязки. Это единственное, что я делаю. Ничего другого. Целыми днями я сижу на стуле у окна и смотрю на кровать. Белое, ручной вязки, покрывало. Почти такое же было у бабушки на кровати в Трудолю-бовке, где я прожила семнадцать лет. Белое вязаное покрывало с незатейливым узором.
Я вспоминаю, как бабушка боялась за это покрывало. Мне никогда не позволялось сидеть на кровати, чтобы не запачкать его. Несколько раз в день бабушка проходила мимо кровати, расправляла почти незаметные для глаза складки и с укоризной смотрела на меня, словно на мне лежала обязанность содержать покрывало в порядке. Вечерами она снимала его и клала в деревянный сундук, который стоял рядом с кроватью.
Простыни бабушки были тоже белые. Она работала дояркой на колхозной ферме, и по возвращении от коров домой у нее всегда были грязные руки и ноги. На ферме было сыро и грязно, особенно когда шел дождь. Там было так грязно, что бабушке приходилось стирать свою рабочую одежду и мыться в бане посреди недели. Обычно, прежде чем уйти спать, она тщательно мылась у рукомойника в кухне. Надо было не замазать покрывало и простыню.
Я думаю о покрывале, которое было в Швеции, и чувствую, как к горлу подкатываются, собираясь задушить меня, позывы тошноты. Я закрываю глаза, хватаюсь за горло рукой и с трудом подавляю возникшие в теле спазмы. Это было запятнанное, грязное и вонючее покрывало. О, как я его ненавидела! Вот и опять я чувствую приступы тошноты.
– Наташа, было бы неплохо, если бы ты высвободила свои чувства и начала рассказывать, – произнесла женщина-врач, которая встретила меня, когда карета «скорой помощи» привезла меня в больницу; теперь она должна была заняться моей реабилитацией.
Первые дни моего пребывания в больнице докторша приходила редко и разговоры со мной не заводила. Сегодня ей, возможно, показалось, что пора начинать длинный и серьезный разговор. Но мне с ней – да и ни с кем вообще – разговаривать не хотелось.
– Если ты хочешь плакать, так поплачь, – продолжала она, словно не замечая, что желания разговаривать у меня не было.