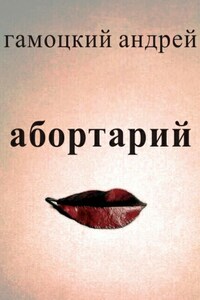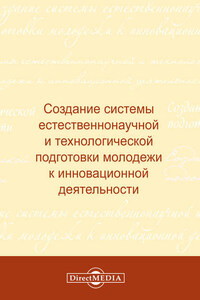Если лицо совершенно меняется от того,
сверху ли или снизу его осветить – чего же стоит лицо?
И чего все вообще тогда стоит?
Уильям Голдинг, «Повелитель мух»
Между криком и стихом
1
Шажок. Остановка. Шажок. Остановка.
В конце пути маячили распахнутые двери. Некогда белые, отдающие желтизной от падающего с ванной света. С разболтанной от старости щеколдой.
Сдавленный вздох рядом. Он перевел взгляд. Придерживая грузное, тянущее долу тело, они все же продвигались вперед. Медленно и неуклюже. Одна рука обхватила складчатую, рыхлую талию, а другая подпирала отекшую ладонь.
Шажок. Остановка. Шажок.
За шаркающими тапками тянулись полуобутые, полувнедренные ноги.
Если было достать, мать хваталась свободной рукой за что-то квартирное – угол стола, спинка стула, дверной косяк, обойная гладь стены. Услужливые и ветхие поручни. Выпуклости ее плоти нехотя следовали за ним, брылы конечностей колыхались величаво и стыдливо. Огромное тело, что свободно, на грани бесстыдства, прикрывала ночная рубашка.
Шажок. Остановка.
Еще шажок. И теперь – два шажка.
Они подошли к ванной. Мать плашмя положила мягкие, податливые сардельки пальцев на холод стены. Ее вытянутая рука походила на набитый, отвисший клюв пеликана.
Каждый шаркающий шажок сопровождался сиплым втягиванием воздуха, судорожной цепкостью хватки, мучительным искривлением щекастого, с бороздами лица.
Он привел мать к ванной. С-под подола мятой ночнушки выступали массивные слоновьи ноги. Забинтованные бурым бинтом, от лодыжек и до колен.
Шажок. Еще шажок.
Он уперся об бочонок стиральной машины. И пододвигал мать все ближе.
Они почти дошли. Бурлящий пучок воды до половины наполнил емкость ванны. От посеревшего горячего крана исходил пар. Зеркало-иллюминатор над умывальником-стойкой запотело.
С кухни играло радио. Там грудным голосом и с надрывом пела женщина.
Мать перевела дух и произнесла сдавленным шепотом:
– Выключи, прошу тебя.
Он шмыгнул на кухню и скрутил коробке звук.
– Женщина, которая поет, – усмехнулась мать, когда он вернулся. – А я женщина, которая ползет.
– Готова?
– Давай постоим еще немного, соберусь с силами.
Искоса он взглянул на ее лицо. Разобранное глубокими бороздами, покрытое испариной, одутловатое и одновременно болезненно поджатое. Лицо человека, что устал терпеть, но не может представить без этого жизнь. Потому что это – и есть жизнь.