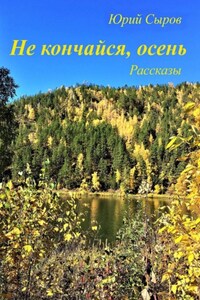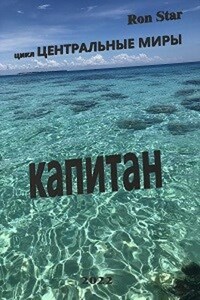Я просыпаюсь и сквозь ещё не открытые веки вижу яркие язычки, пляшущие в печке. По лицу растекается нежная теплота, в носу и глазах легонько пощипывает дымок. Заворожённо смотрю на пляшущий огонь, который то и дело прикрывает своим широким телом мелькающая перед печкой бабушка. Она, улыбаясь, поворачивает ко мне голову, говорит вполголоса, сильно налегая на звук «о»:
– Встал? Ну, айда блинчиков-то. Пока горяченьки.
Сладко потянувшись и зевнув хлопаю ладошкой по кровати. Бабушка понимающе усмехается и ставит мне на кровать тарелку. Кладёт на неё горячие, ароматные, пышные блины, куриным пёрышком густо размазывая по ним растопленное масло. А я с надеждой смотрю на низ входной двери: если там иней – то мороз сильный, а мороз сильный – в школу не идти. Сердце переполняет счастье – там лёд! Дверь, взвизгнув, открывается. Впустив перед собой белое морозное облако и запах табака входит отец. Он смотрел корову, которая вот-вот должна отелиться.
– Ну? – строго спрашивает бабушка, скрестив руки сверху на своём высоком, прикрытым цветастым запоном (фартуком) животе.
– Ну, чё ну? – ворчит отец, стаскивая с ног валенки, – лежит, серку жуёт. И не собиратся вовсе.
Бабушка, сокрушённо вздохнув, вытирает руки краем запона и подаёт мне очередной блин.
– Мам! Опять в кровати кормишь! – укоряет отец.
– Нетрог (пускай) понежится маненько, – машет на него рукой бабушка, – не увидишь, как вымахат, улетит из домУ-то… – и смахивает кончиком полушалка набежавшую слезу.
– Пап! Чё, морозно? – спрашиваю, с надеждой, смачно причмокивая.
– Да не шибко, – огорчает отец, уходя в переднюю.
Смотрю на ласково тикающие бабушкины ходики – семь часов.
– Мам-стара, радиву включай! – кричу бабушке в надежде услышать хрипловатый, с мордовским акцентом, мужской голос: «Внимание, внимание! Говорит радиВВоузел. Сегодня, в связи с низкой температуРРой, отменяются занятия с первого по восьмой. КлассоВВ. ПоВВторяю…»