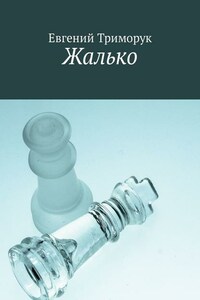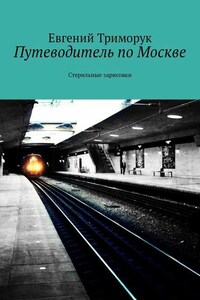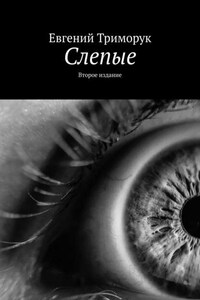***
Отец, насколько знаю, сильно пил, пьяным частенько бил мою мать. Наутро, утверждая, что ничего не помнит, извинялся со слезой, божился, что подобного больше не повторится, падал на колени, чтобы вымолить с прощением немного мелочи на опохмел.
Сейчас я понимаю, до чего сильно его гены живут во мне, развиваются, управляют мной, как много схожего с отцом проявляется в моем характере. Сцены, часто повторяющиеся в моем детстве, я вижу смутно, словно уже тогда учился отгораживаться от всего жестокого и нелицеприятного, зато хорошо помню, как ни стараюсь вывернуться, то состояние беспредельного ужаса, которое разрывало меня изнутри.
Еще в тот день, когда жених перед свадьбой крепко напился, молодой жене присмотреться бы, чтобы понять отправную и уже отвратную точку отсчета. Или окажись рядом тот, кто сбросил бы дурной глаз. И ведь они находились вблизи. Приглушенные голоса. Тени, по плоскости ускользающие в стене, незамеченные, исчезающие. И помимо них, в период свиданий и сватовства, ведь были случаи и прежде предостерегающие. Когда, готовясь к какому-то празднику, каких много в деревне, некие братья отправились на птицеферму. К общему удовольствию, они вернулись. К прочему, без жертвенных созданий, ни живых, ни мертвых, за которыми и отправились шестью часами ранее; оба, твердо стоящие на двух ногах (по одной на брата), шатающиеся, поддерживающие друг друга, плачущие и причитающие. Позже говорили, что с радости.
История повторилась перед свадьбой моей старшей сестры. Но здесь причина была более очевидной: отцовская рука с топором дрогнула над шеей гуся (он впервые выступал в роли гусиного палача), и, не выдержав, отец разрыдался. «Жалько», – проговорил он, а я повторил. И со временем постоянно повторял, по-детски, то надрывно выкрикивая, с вызовом вскидывая взор вверх, то, словно бы потупившись, шепотом, жестким и злостным, вставляя мягкий знак. Это нарушение легко списывалось на мой возраст. Когда видел отца пьяного, когда играл с детьми, когда разговаривал с друзьями, когда мама поворачивалась спиной и не слышала моих слов. Я всегда смягчал это чем-то странное для меня слово. Затем обмягчил другие грубые слова, но «жалько» мне становилось всегда, когда не понимал, что именно и кого именно мне жалко. Слово немощности и оправдания. Слово развитой недоразвитости. Слово-паразитёныш! Всех гусей, то ли семерых, то ли восьмерых, «казнил» для свадебного стола то ли сосед, то ли родственник. Почему разрыдался отец? От презрения к своей слабости, от действительной жалости к животным? Вряд ли я это понимал тогда.